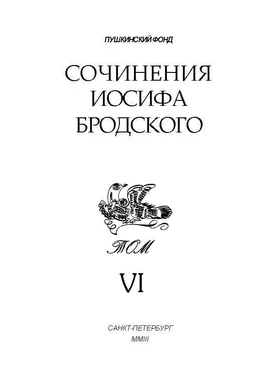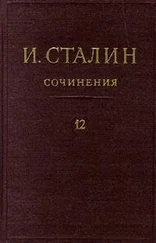июнь 1989
Никогда не думал, что дойду до разговоров об истории. Но, среди прочих уступок собственному возрасту, лекция об этом предмете представляется неизбежной. Приглашение прочитать ее предполагает не столько ценность воззрений лектора, сколько очевидность того, что он сам становится делом прошлого. «Он уже достояние истории» — гласит уничижительное замечание, списывающее тебя в разряд «бывшего», и близость человека К этому статусу и превращает его — подчас в собственных глазах — в мудреца. В конце концов те, кому мы обязаны самим понятием истории — знаменитые историки и их герои, — мертвы. Другими словами, чем ближе мы к своему будущему, т. е. к могиле, тем лучше видится прошлое.
Я согласен с этим. Признание смертности порождает всякого рода прозрения и определения. История, в конечном счете, одно из тех существительных, которое не может обойтись без эпитетов. Сама по себе история простирается от нашего детства назад, к ископаемым. Она может означать одновременно и прошлое вообще, и документированное прошлое, и учебную дисциплину, и качество настоящего или подразумеваемую преемственность. Каждая культура имеет собственную версию древности; как, впрочем, и каждое столетие; и, полагаю, каждый индивидуум. Поэтому единодушие при определении этого существительного немыслимо и, если на то пошло, излишне. Это слово используется в широком смысле как антоним настоящего и определяется контекстом рассмотрения. Учитывая мой возраст и ремесло, мне следует интересоваться антонимами, каждым из них. В моем возрасте и при моем роде занятий чем неуловимей понятие, тем оно притягательней.
Если у нас есть что-то общее с древностью, так это перспектива небытия. Одно это может вызвать интерес к истории, как оно, видимо, и случилось, ибо вся история — об отсутствии, а отсутствие всегда узнаваемо — гораздо лучше, нежели присутствие. Иначе говоря, наш интерес к истории, в котором обычно усматривают поиск общего знаменателя, истоков нашей этики — интерес в первую очередь эсхатологический, и потому антропоморфический, а значит — нарциссический. Доказательством тому служат всевозможные ревизионистские споры и пикировки, которыми эта область изобилует; Упоминая споры модели с художником по поводу ее изображения или споры группы художников перед пустым холстом.
Еще одним доказательством является наша склонность к чтению — а историков к сочинению — жизнеописаний Цезаре? фараонов, сатрапов, королей и королев. Биографии эти никакого отношения к общему знаменателю, а часто и к этике, не имею? Мы увлекаемся чтением такого рода, вследствие того что привыкли отводить себе центральное место в собственной реальности вследствие иллюзии насчет первостепенного значения личности' К этому следует добавить, что стилистически, наряду с биографиями, эти сочинения — последние бастионы реализма, ибо в этом жанре техника потока сознания и другие авангардные игры не годятся.
Конечным результатом является неопределенность выражения, портящая всякий портрет истории. Именно из-за этого модель бранится с художником, или художники воюют между собой. Ибо модель — назовем ее Клио — возможно, считает себя — или действующих от ее имени — более решительной и четкой нежели ее изображают историки. Однако историков, проецирующих собственные сомнения и тонкости на свой предмет, можно понять: в свете — или, скорее, во тьме того, что их ожидает, они не хотят показаться простаками. Демонстрируя колебания и сомнения, историки, как известно, отличающиеся долголетием, превращают свой предмет в нечто вроде страхового полиса.
Сознает это историк или нет, незавидность его положения состоит в том, что он простерт между двумя пустотами: прошлого, над которым он размышляет, и будущего, ради которого якобы он этим занимается. Понятие небытия для него удваивается. Возможно, пустоты эти даже перекрываются. Не в силах справиться с обеими, он пытается одушевить первую, ибо, по определению, прошлое, как источник личного ужаса, больше поддается контролю, чем будущее.
Поэтому антагонистом его должен быть религиозный мистик или богослов. Согласимся, что для выстраивания загробной жизни требуется больше непреклонности, чем для описания жизни предшествующей. Однако это отличие компенсируют соответствующие поиски причинности, общего знаменателя и этических последствий для настоящего — настолько, что в обществе, где авторитет церкви падает, а авторитет философии и государства пренебрежимо мал или отсутствует вовсе, решение этических вопросов препоручается истории.
Читать дальше