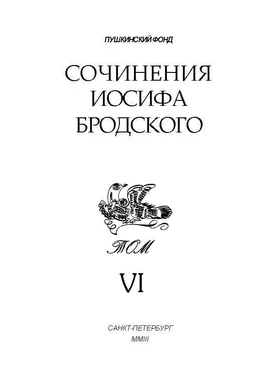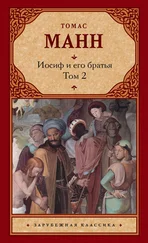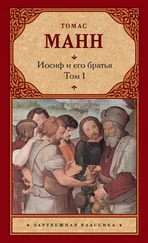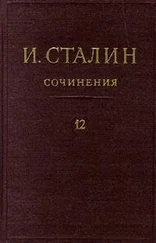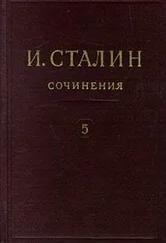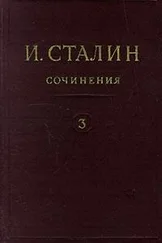Из прошлого есть только одна дорога, и ведет она в настоящее. Однако поэзия Гарди — не очень удобное соседство в настоящем. Его редко изучают, еще реже читают. Во-первых, как минимум по части содержания он просто затмевает огромное количество достижений в последующей поэзии; в сравнении с ним не один новомодный гигант покажется простаком. Что до широкого читателя, то жадность Гарди к неодушевленному представляется неаппетитной и непонятной. Это говорит не столько о психическом здоровье широкой публики, сколько о ее интеллектуальной диете.
И пока он выпадает из прошлого и неуклюже сидит в настоящем, невольно думаешь о будущем как, вероятно, самом подходящем для него месте. Это возможно, хотя технический и демографический водораздел, свидетелями которого мы сегодня являемся, вероятно, исключает любые предвидения или фантазии, основанные на нашем собственном, сравнительно связном опыте. Но все же это не исключено, и не только при условии, что всепобеждающая Имманентная Воля, в апогее своего торжества, вдруг решит наградить своего давнего поборника.
Это не исключено, потому что поэзия Томаса Гарди совершает существенные набеги на цель всяческого познания: на неодушевленную материю. Наш вид пустился в эти поиски давным-давно, справедливо подозревая, что нас с этой самой вещью роднит наш собственный клеточный состав, и что если существует истина относительно окружающего мира, то она может быть лишь не человеческой. Гарди не исключение. Что в нем исключительно, так это настойчивость его попыток, в процессе которых его стихи начали приобретать некие безличные черты самого предмета его исследований, в особенности интонационно. Это, разумеется, можно рассматривать как камуфляж — как защитную форму в окопах.
Или как новую моду, которая воцарилась в английской поэзии нашего века: бесстрастный взгляд стал практически нормой, безразличие — художественным приемом. И все же все это были лишь побочные эффекты. Я осмелюсь предположить, что Гарди стремился постичь неодушевленное не затем, чтобы взять его за горло, — за неимением такового, — а ради его дикции.
Если вдуматься, словосочетание “материальная действительность” вполне применимо к его поэтической речи, только ударение будет на слове “материальная”. Его стихи часто звучат так, будто материя приобрела дар речи как еще один аспект своего человеческого обличья. Может быть, в случае Томаса Гарди дело обстояло именно так.
Но это только естественно, поскольку, как кто-то (скорее всего, это был я) когда-то сказал, язык — это первый эшелон информации о себе, которую выдает неодушевленное одушевленному. Или, если выразиться точнее, язык — это разбавленный аспект материи.
И, возможно, по той причине, что его стихотворения почти неизменно (как только число строк в них переходит за шестнадцать) либо демонстрируют родство с неодушевленным, либо зорко за ним следят, будущее может отвести ему несколько более обширное место, нежели он занимает в настоящем. Перефразируя стихотворение “После меня”, можно сказать, что он всегда замечал внечеловеческие вещи, отсюда — его “зоркость на детали из мира природы” и многочисленные раздумья над могильным камнем. Сумеет ли будущее лучше понять законы, управляющие материей, нежели мы их понимаем сегодня, — неизвестно. Но, судя по всему, у него не будет иного выбора, как признать более значительную степень сходства между человеческим и неодушевленным, нежели та, на которой издавна настаивают литература и философская мысль.
Именно это позволяет, заглянув в магический кристалл, увидать там незнакомые множества в странных одеяниях, со всех ног бегущие за “Собранием сочинений” Гарди (издательства “Scribner”) или за его “Избранным” (издательства “Penguin”).
1994
Перевод с английского Александра Сумеркина под редакцией Виктора Голышева
I
Написанное в 1904-м стихотворение Райнера Мария Рильке "Орфей. Эвридика. Гермес" наводит на мысль: а не было ли крупнейшее произведение века создано девяносто лет назад? Его немецкому автору в это время исполнилось двадцать девять лет; вел он, в общем, бродячий образ жизни, который привел его сперва в Рим, где это стихотворение было начато, а потом, в том же году, — в Швецию, где оно было закончено. Ничего больше и не нужно говорить об обстоятельствах его возникновения — по той простой причине, что в своей совокупности оно не равнозначно никакому человеческому опыту.
Читать дальше