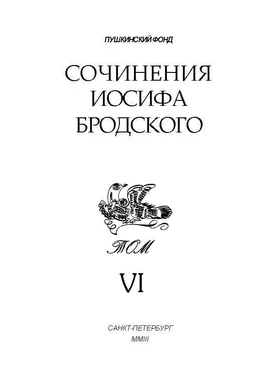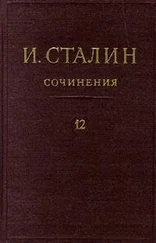Подтверждением этой догадки может служить неопределенность времени года в следующей строфе. Я бы предположил, что это осень, поскольку последующие строфы описывают, соответственно, лето и зиму, и терновник без листьев кажется неживым и замерзшим. Эта последовательность слегка странна для Гарди, который всегда мастерски строит сюжет и который, как можно было бы предположить, всегда предпочел бы дать времена года в традиционном, правильном порядке. Но как бы там ни было, вторая строфа отличается исключительной красотой.
Все начинается с еще одного скопления свистящих в “eyelid's soundless blink” (“беззвучно, как мгновение ока”). Опять — без доказательства и опровержения, — но я подозреваю, что “eyelid's soundless blink” — это отсылка к строке Петрарки “Одна жизнь короче мгновения ока”. “После меня”, как мы знаем, — стихотворение о кончине автора.
Но даже если мы оставим в покое первую строку с ее великолепной цезурой, за которой следуют два шелестящих “s” между “eyelid's” и “soundless”, заканчивающуюся двумя другими “s”, здесь еще полно всего. Во-первых, перед нами весьма кинематографичный, в замедленном движении “росный” ястреб (“The dewfall-hawk”), который “comes crossing the shades to alight…” (“пролетит сквозь тени и сядет”). Обратите внимание на его выбор слова “shades” (“тени”) — учитывая наш сюжет. И давайте подумаем — почему здесь возник “dewfall-h a wk” — в особенности слово “dewfall” (“росный”)? Что, можем мы спросить, делает здесь эта роса, следующая за мгновением ока и предшествующая “теням”? Уж не скрытая ли это слеза? И разве не слышим мы в “to alight/ Upon the wind-warped upland thorn” (“сядет/ На гнутый ветром стебель нагорного терновника”) обузданную или преодоленную эмоцию?
Может быть, и нет. Может быть, мы слышим лишь нагромождение ударений, в лучшем случае своими “up/ warp/ up” вызывающее в воображении шум терновника под беспощадным ветром. На таком фоне безличное, безразличное слово “gazer” (“зевака”) прекрасно подходит, чтобы описать наблюдателя, лишенного каких бы то ни было человеческих характеристик (кроме зрения). “Зевака” годится здесь, поскольку он видит отсутствие нашего автора и, таким образом, не может быть описан в подробностях: вероятность не может быть чрезвычайно детализированной. Точно так же ястреб, машущий крыльями, как веками, пролетающий через “shades” (“тени”), движется сквозь то же самое отсутствие. Подобное рефрену “То him this must have been a familiar sight” (“Наверняка этот вид был ему хорошо знаком”) тем более пронзительно, что оно действует в обоих направлениях: полет ястреба здесь в той же мере реальный, сколь и посмертный.
Вообще красота этого стихотворения заключается в том, что все в нем умножено на два.
В следующей строфе, насколько я понимаю, речь идет о лете, и первая строка ошеломляет своей осязаемостью — “mothy and warm” (“мотыльковая и теплая”), тем более ощутимой, что она изолирована весьма мужественно сдвинутой цезурой. Но, говоря о мужестве, следует отметить, что только очень здоровый человек может созерцать ночную черноту момента своей кончины с таким присутствием духа, как в строке “If I pass during some nocturnal blackness…” (“Если я отойду в ночной черноте…”). Не говоря о более непринужденном обращении с цезурой. Единственный признак возможной тревоги здесь кроется в слове “some” перед “nocturnal blackness”. С другой стороны, слово “some” — один из кирпичиков, всегда имеющихся под рукой у поэта, если ему нужно сохранить размер.
Как бы там ни было, главный приз в этой строфе, несомненно, присуждается строке “When the hedgehog travels furtively over the lawn” (“Когда ежик украдкой переходит лужайку”), а внутри строки, конечно, слову “furtively” (“украдкой”). Остальное здесь менее живо и, бесспорно, менее интересно, поскольку наш поэт явно старается завоевать сердца публики сочувствием к миру животных. Это совершенно излишне, поскольку, в силу сюжета, читатель и так уже на стороне автора. К тому же, если бы возникло желание проявить здесь несговорчивость, можно было бы поинтересоваться, грозила ли всерьез этому ежику какая бы то ни было опасность. Однако на этом этапе никому неохота препираться по мелочам. Но и сам поэт, судя по всему, ощущает здесь нехватку материала. Поэтому он громоздит на свой гекзаметр еще три дополнительных слога — “One may say” (“Кто-то может сказать”) — отчасти потому, что, по его представлениям, неуклюжая речь ассоциируется с сердечностью, а отчасти — чтобы продлить время умирающему или время, в течение которого про него будут помнить.
Только в четвертой, зимней, строфе тема отсутствия начинает звучать в полную силу.
Читать дальше