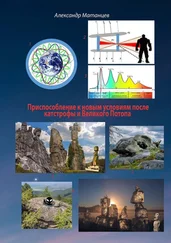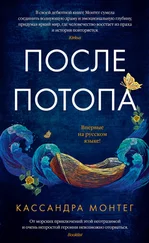Английские бояре, о которых говорит Дохтуров, сидели в Палате лордов. Ее русским аналогом была Дума. Заседавшая по понедельникам, средам и пятницам, она не была «ручным» органом. Думские бояре не просто оглашали свои соображения, но и отстаивали их. Представления же о том, что бояре только и делали, что отбивали царям поклоны, пришли из дурных фильмов. Заседания проходили в прениях, достигавших порой большого накала. «Встречи», т. е. возражения царю, были обычным явлением. Об Иване III рассказывали, что он любил и даже поощрял «встречу». Из слов Ивана Грозного в письме Курбскому видно, что «встречи» в Думе его деда доходили до «поносных и укоризненных словес» государю. Думские решения завершались не только формулой «Великий государь говорил, а бояре приговорили». Они порой завершались, напоминает нам Д. С. Лихачев, иначе: «Великий государь говорил, а бояре не приговорили». Спорные вопросы вызывали «крик и шум велик и речи многие во боярех». Большинство решений принимались вообще без государя. Как ни удивительно, но было только два рода боярских «приговоров» (решений), которые всегда представлялись на царское утверждение, – о местнических спорах (о том, кто знатнее) и о наказаниях за тяжкие преступления, причем царь их обычно смягчал. Куда более важные, на современный взгляд, «приговоры» Думы не нуждались в утверждении царя.
Вплоть до петровских преобразований власть в России (исключая верховную власть государя и власть воевод в городах с уездами) была выборной. Она была представлена уездными, волостными и посадскими самоуправляющимися органами. Вполне демократическая процедура была у сельского «^ра», а в городах существовали свои структуры средневекового гражданского общества – «сотни» и слободы («слобода», кстати, – вариант слова «свобода») с выборными старостами.
На выборных должностных лицах – земских (волостных) и губных старостах и целовальниках – лежали административные и судебные обязанности. Губа представляла собой судебный округ и включала 1–2 уезда. Губные старосты (именовались также «излюбленными старостами») избирались обычно на год, они расследовали серьезные уголовные преступления. Выборными были земские судьи («судейки») с дьяками («кому у них всякие дела писати»), отвечавшими за правильное оформление дел. Земские власти ведали важнейшими для населения делами, включая землеотвод, межевание, сбор податей, поддержание порядка, разверстку общественных обязанностей и повинностей, борьбу с эпидемиями, клеймение лошадей, контроль за состоянием мер и весов и т. д., а также проведение выборов.
На этих выборах из местных дворян избирались старосты, а их помощники – целовальники – из местных крестьян и посадских людей. Выбирались также сотские и пятидесятские. Слово «целовальник» сегодня звучит забавно (особенно сочетание «губной целовальник»), но объясняется просто: вступая в эту выборную должность, человек приносил присягу, целуя крест.
Даже в таком крупном городе, как Нижний Новгород, весь «аппарат» городового воеводы состоял из дьяка с подьячим.
И. Л. Солоневич, кажется, первым привлек внимание к тому факту, что русский Судебник 1550 г. содержит положения, на 129 лет опередившие то, что считается главной вехой на европейском пути к правам человека, а именно английский «Habeas corpus act». В России по Судебнику 1550 г. власти не имели права арестовать человека, не предъявив его представителям местного самоуправления – старосте и целовальнику, иначе последние по требованию родственников могли освободить арестованного и взыскать с представителя администрации соответствующую пеню «за бесчестье».
Начиная с XV в. для страховки от возможного судебного произвола жители стали посылать в суды своих выборных (сотских, старост, целовальников). Эти люди становились понятыми на суде, чтобы судящимся «не творилось неправды». Тем самым достигалась публичность судопроизводства, а возможность злоупотреблений резко падала.
Был простой и довольно надежный способ (известный с первых великих князей Московских) пожаловаться на сколь угодно высокое лицо: подать челобитную монарху лично. Устойчивость этой практики говорит о том, что по крайней мере часть прошений удовлетворялась. Царь был доступен, поскольку ходил к службе в Успенский собор Кремля пешком, а так как Кремль был открыт, теоретически любой мог подать царю челобитную. Особенно много желающих набиралось в праздники. При большом стечении народа редко кому удавалось передать ее лично в руки, но беды в том не было. Адам Олеарий описывает, как при приближении царя (Михаила Федоровича) люди в толпе поднимали челобитные над головой. Их собирал чиновник и уносил в Челобитный приказ. В ходе преобразований правительственных ведомств после Смутного времени в 1619 г. появился отдельный приказ с красноречивым названием «Приказ, что на сильных бьют челом».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
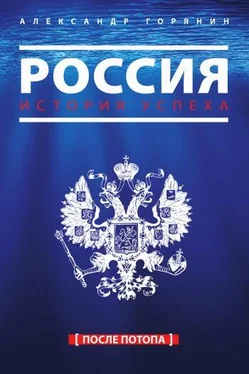


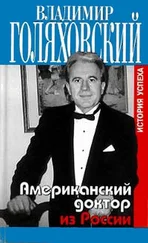


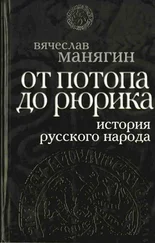

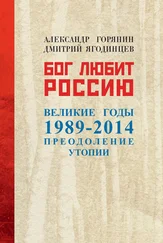
![Кассандра Монтег - После потопа [litres]](/books/389827/kassandra-monteg-posle-potopa-litres-thumb.webp)