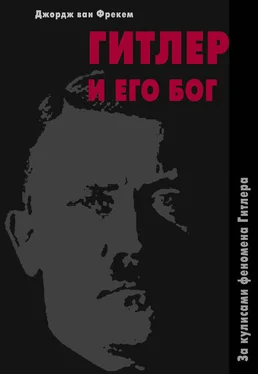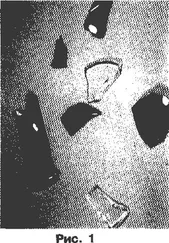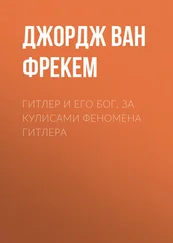«Гитлер не выдерживает с Наполеоном никакого сравнения, – говорил Шри Ауробиндо. – Гитлер – это человек одной идеи… тогда как у Наполеона было много идей: он был не только военачальником, но и администратором, организатором, законодателем и многим другим. Именно он преобразовал и Францию и Европу, он упрочил Французскую революцию. Он был не просто законодателем – он установил основы социальных законов, администрации и финансов, которым следуют и сегодня. Он был не только одним из величайших военных гениев истории, но и одним из величайших людей вообще, со множеством способностей. Гитлер – это человек без интеллекта, у него есть лишь одна идея, которую он проводит в жизнь с большой энергией и жестокостью. Он не контролирует свои эмоции. Он нерешителен в политике – что некоторые называют осмотрительностью. И его сила исходит от асура, который владеет и управляет им, тогда как Наполеон был обычным человеком, действующим силой своего ума, достигшего высшего развития, возможного в человеческом существе» 307.
Это же существо, сделанное из низшей глины, – совсем иное,
В нем нет величия, это играющий карлик,
В его естестве смешались железо и грязь,
Маленький, ограниченный, мечтательный ум,
Хитрый и умелый в своей узкой области.
Это сентиментальный эгоист, грубый и пустой,
Чье сердце никогда не было добрым, свежим и молодым,
Безрассудный дух, движимый надеждами и страхами,
Впечатлительный невротик со слезами и воплями,
Неистовый и жестокий, дьявол, дитя, дикарь…
Адольф Гитлер был «солипсистом». В словаре можно найти определение солипсизма как «теории, согласно которой единственное, в чем ты можешь быть уверен, – это твое собственное существование, твои собственные мысли и идеи». Это также «крайняя форма скептицизма, которая отрицает возможность всякого знания, кроме знания о своем собственном существовании». Другими словами, солипсист – это единственный герой в пьесе своей собственной жизни, а мир для него – сцена. В психологии это также называют «нарциссизмом». Биограф Гитлера Ройт утверждает, что тот был «болезненно эгоистичным одиночкой», а Кершоу – что тот был «крайним, нарциссическим эгоистом», страдающим от «эгоцентризма монументальных масштабов». «Он просто не мог терпеть ситуаций, в которых не доминировал», – заключает Ганфштенгль 308.
Жизнь Гитлера изобилует примерами, подтверждающими справедливость сказанного. В возрасте шестнадцати-семнадцати лет в Линце он был увлечен одной девушкой, Стефани, которую его воображение преобразило в Валькирию, но к которой он так и не осмелился подойти. В Вене он принялся было за оперу на сюжет из древнегерманской мифологии «Кузнец Виланд», хотя даже не знал, как писать партитуру. «Гитлер не признавал, что обстоятельства реального мира должны ограничивать его мечты и его волю», – так описывает это его друг юношества Кубицек. Тот же самый Кубицек был первым, кому приходилось страдать от страстных гитлеровских монологов, от его «неутолимого желания разражаться тирадами». Для Адольфа это было единственным способом самовыражения, его внутреннее смятение находило выход в словесных потоках. Гитлер никогда не был способен к нормальному разговору, в какой бы то ни было компании. И когда он пускался в свои тирады, даже к одному человеку он обращался как к толпе.
«Гитлеру жизнь представлялась чем-то вроде непрерывного парада перед гигантской аудиторией», – пишет Фест. Он также упоминает о его неспособности жить без позерства. «Это стремление к театральности было в центре его существа… Череда новых ролей давала ему ориентацию и опору в мире: от ранней роли сына из хорошей семьи и праздного студента, прогуливавшегося по Линцу с тросточкой и в лайковых перчатках, через вереницу ролей вождя, гения и спасителя до вагнерианского конца, где его целью было создать торжественный оперный финал. Каждый раз он занимался самовнушением, являясь в чужих личинах и заимствованных формах существования. И когда после одного удачного международного трюка он назвал себя, в порыве простодушного хвастовства, “величайшим актером Европы”, он говорил не только о своих способностях, но и о своей глубинной потребности» 309.
Ближе к концу солипсист-Гитлер мог месяцами двигать несуществующие или совершенно истощенные армии по картам, размашистыми жестами посылая тысячи на бессмысленную смерть. Его поступки стали еще абсурднее в ходе «имитации вагнерианского конца», когда связь с обессиленными людьми на полях сражений была потеряна и он без колебаний торопил гибель народа, который оказался недостойным его. «Если немецкая нация потерпит в этой борьбе поражение, значит, она была слишком слаба. Это значит, что она не вынесла проверки историей – ничего, кроме гибели, ее и не ждало» 310. Кроме того, все его предали. «Я буду сражаться в этой битве один!» – театрально кричал человек, ставший развалиной. Годами приказывая убивать, сам он, однако, так ни разу и не выстрелил, даже в приступе ярости.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу