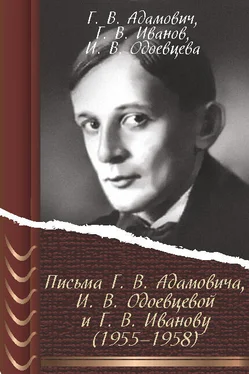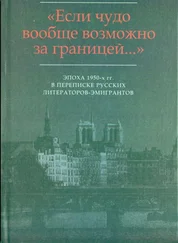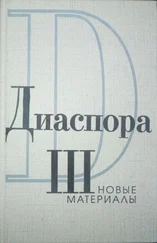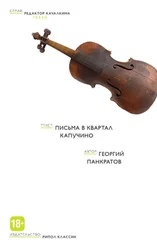Письма М. И. Цветаевой барону А. С. Штейгеру были впервые опубликованы (с купюрами) К. С. Вильчковским в нью-йоркских «Опытах» (1955. № 5; 1956. № 7; 1957. N 88).
Эпистолярный роман Цветаевой с Штейгером кончился разрывом после того, как Цветаева узнала, что Штейгер, приехав из Швейцарии в Париж, первым делом отправился на Монпарнас к Адамовичу.
Сестра А. С. Штейгера баронесса Алла Сергеевна Головина познакомилась с Цветаевой еще в 1920-х гг. в Чехословакии, где училась в русской гимназии вместе с Ариадной Эфрон.
«Довольно подобной музыки» (фр.).
Макеев Николай Васильевич (1889–1974) – художник, в середине 1920-х – начале 1930-х гг. состоял в гражданском браке с дочерью Ахад-га-Ама Розой (Рахелью) Гинцберг (1885–1957) после ее развода с Осоргиным; затем женился на Н. Н. Берберовой вскоре после того, как она ушла от Ходасевича. Разошлись в 1947 г.
В книге Г. П. Струве «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956) Адамовичу было уделено очень много внимания. Помимо нескольких главок, посвященных собственно Адамовичу, его имя в том или ином контексте встречается на протяжении всей книги, начиная буквально с первой страницы (на 98 страницах из 394).
От фр. reprimande – выговор, замечание.
Рецензия Терапиано не была совсем уж комплиментарной, в частности, он отметил, что в большинстве разногласий Ходасевича и Адамовича Г. П. Струве занимает отнюдь не академическую позицию над схваткой: «Чувствуется, что сердцем он не на стороне “линии” Г. Адамовича, а скорее – на стороне Вл. Ходасевича» (Терапиано Ю. Русская литература в изгнании // Русская мысль. 1956. 9 июня. № 910. С. 4–5).
В кои-то веки (фр.).
Марков В. Заметки на полях // Опыты. 1956. № 6. С. 62–66. Наибольшее возмущение вызвали два пассажа Маркова; в первом, посвященном спору о «незамеченном поколении», была задета Е. Д. Кускова: «Г-жа Кускова (которую в свое время воспел Маяковский) входе дискуссии высказалась на тему, почему-то до сих пор очень популярную в некоторых окололитературных кругах – о “понятной” и “непонятной” поэзии. Пример был взят из той же многострадальной Цветаевой – стихи совершенно понятные, даже ребенку, и вдобавок еще очень хорошие. Я их не знал и пользуюсь случаем поблагодарить Кускову за информацию»; во втором – Чернышевский и вместе с ним вся «общественность»: «Глава о Чернышевском в “Даре” Набокова – роскошь! Пусть это несправедливо, но все ведь заждались хорошей оплеухи “общественной” России» (С. 65). «Заметки на полях» вызвали бурный, совершенно несоразмерный с ожидаемым резонанс. Самые маститые присяжные критики эмиграции – каждый по своей причине – обратили внимание на Маркова, чему он был совсем не рад. 2 июня 1956 г. Г. П. Струве писал Маркову из Парижа: «На Вашу статью получил крайне возмущенный отклик от М. В. Вишняка. Он в совершенном ужасе, просит меня даже по дружбе что-то “сделать” с Вами, пробрать или проучить. Я не могу, поскольку не знаю, в чем дело. Но очевидно речь идет о чем-то недопустимом, что Вы написали по адресу Е. Д. Кусковой (кстати, я с этой замечательнейшей 87-летней женщиной провел несколько интереснейших вечеров в Женеве – я ведь специально для нее туда ездил), и еще более “недопустимой фразе о Чернышевском а ргоро сиринского “Дара”. Судя по приведенной Вишняком цитате, фраза действительно малоуместная. ……Боюсь, что в том, на что указывает Вишняк, сказалось не раз замеченное мною у Вас озорство и отсутствие “решпекта” к вещам, которые заслуживают иного» (Собрание Жоржа Шерона). Марков ответил Струве 8 июня 1956 г.: «Получил Ваше письмо с нотацией – поделом мне! Написал Вишняку тоже о том, что ошибку сознаю. Некоторые оправдания у меня есть (не снимающие вины, конечно). Писал я все это давно, когда еще шла газетная дискуссия между Кусковой и Яновским. Теперь же все уже читали саму книгу Варшавского, гораздо более широкую по содержанию, и мои замечания кажутся особенно легковесными и неуместными. К тому же Иваск сильно “обработал” все (вот когда прочитаете, услышите, что звучит местами совсем как Иваск – а значит, и усиляет впечатление развязного легкомыслия. …Еще одно оправдание: я это писал “из-под палки”, Иваск очень просил что-нибудь для номера, а у меня ничего готового не было. Можно, конечно, возразить, что скверного немало пишут сейчас на страницах нашей печати. Откуда мне такая честь – что все возмутились? Тем более что вещь-то короткая, проходная, “вторичная”, ни на что не претендующая. … Очевидно, придется наложить на себя какой-то “обет молчания”» (Hoover. Gleb Struve Papers. Box 105. Folder 9). Ознакомившись с «Опытами», Струве написал Маркову 15 июня 1956 г.: «Я прочел ту статью, которую Вам инкриминировал Вишняк, и нашел, что “не так страшен черт, как его малютки” – не так уже велик Ваш грех. … У Вас мне не понравились “афоризмы” в конце статьи – они какие-то дешевые и Вас недостойные. Но все-таки это не значит, что Вы должны замолчать, как Вы пишете в письме, которое я нашел здесь» (Собрание Жоржа Шерона). 17 июня 1956 г. Ю. П. Иваск сообщил Маркову о развитии сюжета: «10-го было собрание “Опытов”. Что там творилось… Сперва о Вас. Разговоров было много. Все признали, что Марков талантлив, но два часа обсуждали Вашу оплеуху и один час пенис Поплавского. … На меня большое впечатление произвел Вишняк – еще недавно был он моложавый самодовольный адвокат-социалист, а тут он явился рыдающим Иеремией. Я постарался его успокоить. Что делать – Чернышевский для него святой, как Никола для бабы. Это вера. Ульянов и Коряков сказали, что Ваши заметки не на художественной высоте, но вместе с Завалишиным отмежевались решительно от Чернышевского и Вишняка. Но Варшавский и я, мы поняли Марка Веньяминовича, и я с ним еще долго беседовал по телефону. Ваша оплеуха по сути и по контексту добродушна. Но теперь я вижу, что надо было и оплеуху, и пенис (Поплавского) опустить, чтобы не дразнить гусей. Кое-кто грозил почтенной доброй издательнице и мне американской тюрьмой! … Уравновешенный Карпович говорил как всегда хорошо и умеренно, хотя и был против оплеухи. Между прочим, Завалишин сказал, что Аронсон импотент, и я, как председатель, его остановил. … Не принимайте всего этого так горячо. Адамович Вас ценит. Вишняка мы успокоим. Таланты Ваши признаны» (Собрание Жоржа Шерона). 22 июня 1956 г. Марков пересказал Струве письмо Иваска, добавив: «С Вишняком у нас полный мир. Я написал ему “милое” письмо, в котором не настаивал на том, что мои заметки “шедевр”, называл их “скверными” (что в конце концов и недалеко от истины) – и это его обезоружило» (Hoover. Gleb Struve Papers. Box 105. Folder 9). Струве в свою очередь сообщил Маркову из Лондона 24 июня 1956 г.: «Вчера получил письмо от Вишняка. Он пишет, что, подобно тому как они несколько месяцев “жили под знаком” или “в эпоху” Варшавского, так целая неделя прошла у них “под знаком” В. Маркова. Описывает вкратце собрание, посвященное “Опытам”, на котором он выступал против Вас (и Карпович тоже)» (Собрание Жоржа Шерона). В полемику с Марковым вступил и В. В. Вейдле в статье «О спорном и бесспорном», обратив внимание на его высказывания об «отцах и детях в эмиграции»: «О поколениях в этой статье рассуждает он, как мне кажется, совсем неправильно. ……В том-то и беда, что никакой борьбы литературных поколений нив России, нив эмиграции не происходит. Когда Марков полемизирует – с Г. В. Адамовичем, например, – он ищет точку опоры не в несуществующих литературных позициях своего поколения, а либо в своих частных взглядах, либо в литературных позициях одной из частей того поколения, к другой части которого принадлежит и сам Адамович. Когда же Марков пишет о “поколении отцов”, что оно, “зачитываясь Михайловским и Марксом, не имело времени читать Еврипида и Расина”, он забывает, что писатели у нас, даже и в конце прошлого века, вовсе не так уж усердствовали по части Маркса и Михайловского, тогда как тот же Анненский, например, Еврипида, во всяком случае, читал, да и Расина тоже, чего я не решусь утверждать ни о Хлебникове, ни о Маяковском, ни о многих из тех, кому они годились бы в отцы. Дело тут не в поколениях; дело в том, что в эмиграции, именно вследствие неустроенности, да и относительной бедности ее литературной жизни, постоянно велись и ведутся споры не о спорном, не о том, что заслуживало бы спора, а о бесспорном» (Опыты. 1956. № 7. С. 42–43). Георгий Иванов, прочитавший № 6 «Опытов» с большим опозданием, ободрил Маркова в письме от 6 октября 1957 г.: «Обмолвка о Чернышевском “роскошь” сама по себе – недаром она так искренно возмутила всех Вишняков эмиграции» (Georgij Ivanov / Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955–1958 / Mit einer Einl. hrsg. von H. Rothe. Koln; Weimar; Wien: Bohlau Verl., 1994. S. 79).
Читать дальше