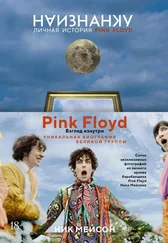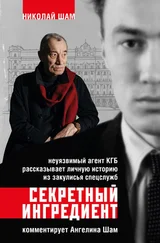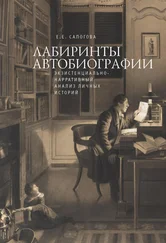В моей семье, как оказалось, тоже были раскулаченные и репрессированные, но до начала 90-х годов об этом вообще никогда не упоминалось, да и потом узнать удалось совсем немногое. Привычка молчать о пережитом прочно укоренилась в нас. Миллионы людей десятилетиями хранили свои истории нерассказанными. Мне кажется, именно поэтому наше общее прошлое, укрытое плотной пеленой молчания, и кажется нам таким нереальным. Без живых личных историй трудно поверить, что все, о чем пишут историки, происходило на самом деле. Поэтому возможность наконец услышать эти рассказы была для меня по-настоящему ценной.
Моей задачей было превратить снятые на видео многочасовые рассказы в достаточно краткие тексты, и я очень сожалею о том, как много материала не вошло в сборник. Формат документальной прозы обязывал нас придерживаться фактологической части интервью, поэтому множество интересных деталей, личных наблюдений, романтических и даже мистических историй остались за рамками этой книги. Жизнь каждого из наших героев может стать основой для большого романа, фильма или сериала. Я очень рекомендую сценаристам, писателям, историкам, исследователям языка посмотреть полные версии этих видеоинтервью. Замечательно, что этот бесценный материал записан и теперь всегда будет доступен.
Татьяна Полянская,
старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа

По профессии и призванию я историк, и в основе моей деятельности лежит работа с архивными документами и научной литературой. Профессиональный долг любого историка — опираться на неопровержимые исторические факты: законодательные акты, делопроизводственную документацию, официальную статистику. Но работа историка в музее имеет свои особенности, одна из которых — сделать историю доступной и понятной для всех посетителей, включая детей. А это нелегкий труд.
Музей истории ГУЛАГа по своему профилю не просто исторический музей, его миссия — сохранение памяти о ГУЛАГе и его узниках, о политических репрессиях и карательной политике сталинской власти в отношении собственного народа. Деятельность музея носит научный характер, в ее основу заложены не только новейшие исторические исследования, но и собственная научно-исследовательская работа. Но за бездушными цифрами статистики и сухими фразами приказов, докладов и отчетов, с которыми мы кропотливо работаем в научном отделе, стоят миллионы людей, прошедших ад сталинских лагерей и тюрем.
Я не была свидетелем рождения «Моего ГУЛАГа», но с первого же просмотра одного из интервью этого проекта я впервые с необычайной ясностью поняла ценность живого свидетельства и каждый раз с нетерпением жду новых фильмов проекта.
Для меня «Мой ГУЛАГ» — это не просто возможность подтвердить, а где-то и дополнить уже известные мне исторические факты, это мощная эмоциональная перезагрузка, возможность под другим углом взглянуть на историю и «вырваться» из «стерильного» документального мира нашего научного отдела в частности и исторической науки в целом.
Светлана Пухова,
руководитель издательской программы Музея истории ГУЛАГа

Нашу с дизайнером Игорем Гуровичем инициативу делать красивые интересные книжки для Музея истории ГУЛАГа поддержал директор Роман Романов. Это было в 2017 году. А теперь у музея есть издательская программа, над книгами работают прекрасные дизайнеры — Игорь Гурович, Анна Наумова, Кирилл Благодатских, Настя Яруллина. Замечательный верстальщик — Дмитрий Криворучко.
А началось все с маленькой рукописной книжечки-дневника заключенной Карлага. Эта книга была совместным проектом с «Новой газетой». В основе книги «Метео-чертик. Труды и дни» было журналистское расследование Зои Ерошок. К ней эта маленькая, с ладонь, книжечка попала волею случая, и совершенно ничего не было известно об ее авторе, кроме имени Олечка. Два года Зоя настойчиво искала автора. Им оказалась Ольга Михайловна Раницкая, сидевшая в лагере по политической статье и работавшая на метеостанции. Свой рукописный дневник она посвятила сыну Сашке, но им так и не суждено было увидеться — он покончил с собой. Не выдержал травли одноклассников. Он же был сыном врага народа.
Читать дальше
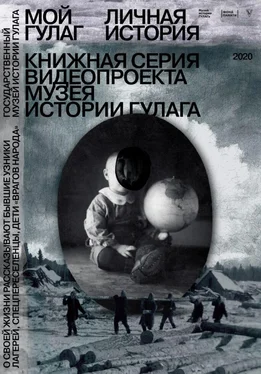


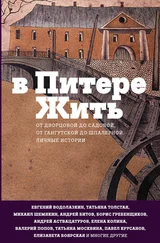

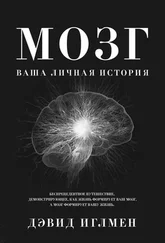

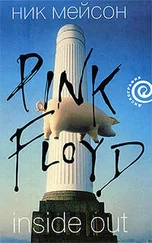

![Мишель Филгейт - О чем мы молчим с моей матерью [16 очень личных историй, которые знакомы многим]](/books/401476/mishel-filgejt-o-chem-my-molchim-s-moej-materyu-16-thumb.webp)