Случай Бабицкого – аномалия. Он – единственный журналист мощнейшей и вреднейшей структуры «Радио “Свобода”», которого уволили с работы вскоре после того, как он высказал свою позицию по присоединению Крыма и по «сепаратистскому движению» на Донбассе.
Вместо того, чтоб раскаяться, исправиться и произнести какую-то сакраментальную фразу вроде «Я был ослеплён и наивен…» – Бабицкий перебрался в Донецк и остался там жить.
Мы с ним несколько раз созванивались, и наконец однажды встретились в легендарном донецком кафе «Легенда» – любимом месте обитания донбасских военкоров.
Бабицкий оказался невысоким дядькой в очках, умеренно приветливым, очень внимательным; невозмутимым и ведущим себя с безупречным достоинством. Некоторое время я разглядывал его, пытаясь понять, что за крови в нём замешены; потом спросил прямо, он сказал, что по матери он таджик, а по отцу еврей. Что ж, редкая замесь.
* * *
– Достаточно близко общаясь вторую половину «нулевых» с российскими либералами, я предполагал, что рациональное осмысление тех или иных ситуаций в итоге нас может привести к одним и тем же выводам, – издалека начал я. – Кардинально разойдясь в 1991 году, мы, надеялся я, когда-нибудь сможем сойтись хоть в каких-то вопросах. Но после киевского майдана, у нас, напротив, случился полный разлад. Почти со всеми поголовно! В итоге, я начал исследовать личный путь каждого, кто в этой истории сделал неожиданно иной выбор. Их не так много, кроме тебя. По пальцам одной руки можно пересчитать.
Пока я говорил, Бабицкий заказал себе одну рюмку водки, и больше ничего.
– Я бы не сказал, что был выбор, – начал он, не раздумывая, отвечать, едва я замолчал. – Вот у меня есть приятель, который с очень популярным в среде либеральной общественности аргументом ко мне регулярно обращается: вот, дескать, представь коммунальную квартиру, и вот там взяли и отобрали комнату. А я ему говорю, что эта аналогия не работает. Потому что речь вообще не идёт о собственности.
– Это он про Крым так говорил?
– Да. Эта аналогия работала бы, если бы мы оперировали аналогиями пространства, территорий. Но речь идёт – о людях. И так как люди были несчастливы, поскольку судьба их соединила с Украиной вероломным образом, у политиков нашлась воля и решимость поправить эту историческую несправедливость. А что там с территориями – это глубоко плевать. Я исхожу из того, что единство страны или право нации на самоопределение – это всё работает до тех пор, пока не вступает в конфликт с интересами человека. Я вообще считаю, что право – это частный случай нравственности. Исторические формы меняются, появляются какие-то новые конфликты, новые отношения. И тогда высокие нормы нравственности, императивы переходят на язык конкретных человеческих отношений. Право должно соответствующим образом меняться. Поэтому когда наши оппоненты и партнёры говорят, что нужно исходить из норм международного права – я могу соглашаться: надо, но ровно до тех пор, пока не приходит очередь исходить из интересов людей.
Я думаю, именно здесь кроется наше с ними отличие. Кроме этого, они же объявляли себя гуманистами более гуманными, чем кто бы то ни было. Они могли в любой момент про слезинку ребёнка рассказать увлекательную историю. Но, похоже, они очень легко меняют стандарты.
– А ты раньше это замечал – до Крыма, до войны на Донбассе?
– Да, конечно. Поэтому я всегда держался в стороне. На радио я последние четыре года занимался Грузией, и меня это абсолютно устраивало, потому что я разносил в пух и прах Саакашвили – самого омерзительного политика на всём постсоветском пространстве, который для меня воплощает вообще всякую антидёмократическую – ну, под вывесками, связанными с либеральными ценностями, – политическую деятельность. В этом смысле он создал самое настоящее полицейское государство. Он нагнал на своё население такого ужаса, которого не нагонял никто на советских и постсоветских людей со времён Сталина. В этом смысле по «эффективности» ему равных нет. Он такой постсоветский Пиночет. И я занимался тем, что громил Саакашвили, и его сторонники из Грузии заваливали жалобами на моё подразделение американское посольство.
– А в чём причина того, что у него, как нам рассказывают, что-то даже получилось, но при этом население Грузии его отринуло? Всему этому есть какое-нибудь объяснение?
– Есть. Дело не в том, что грузины свободолюбивый народ. Я думаю, что свободолюбие – это такая форма общественного бытия, которая очень органично сформировалась в постсоветскую эпоху. Я не беру Среднюю Азию – там какие-то свои традиции, но вот, скажем, более или менее европейская часть – навести совсем уж тоталитарный полицейский порядок нигде здесь уже не получится. Ведь в Грузии всё это выходило за всякие пределы: людей тысячами бросали в тюрьмы, калечили им жизнь, ежедневные пытки имели место, перераспределение собственности. Он действительно уничтожил коррупцию на низовом уровне, но элитная коррупция таким пышным цветом цвела! Думаю, просто люди устали. И понимали, что за пределами Грузии всё иначе. Может быть, кто-то не понимал, но чувствовал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Захар Прилепин Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны: 2013-2021 [litres] обложка книги](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-cover.webp)
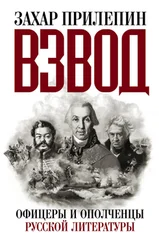







![Захар Прилепин - Имя рек. 40 причин поспорить о главном [litres]](/books/396727/zahar-prilepin-imya-rek-40-prichin-posporit-o-glav-thumb.webp)
![Захар Прилепин - Истории из лёгкой и мгновенной жизни [litres]](/books/404469/zahar-prilepin-istorii-iz-legkoj-i-mgnovennoj-zhizn-thumb.webp)

