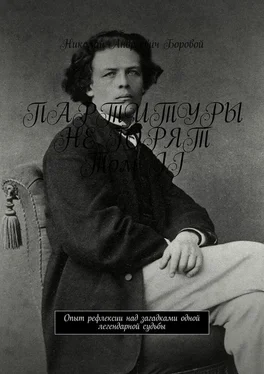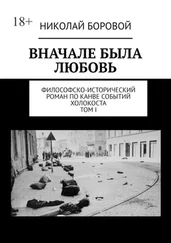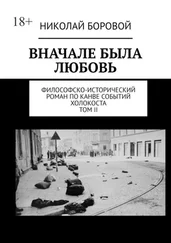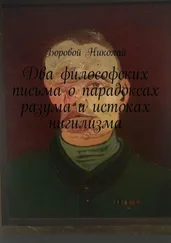Николай Боровой - ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы
Здесь есть возможность читать онлайн «Николай Боровой - ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. ISBN: , Жанр: Критика, Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005086471
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Все то же самое – глубокий художественный символизм, объемлющий не только сюжетно-литературные, а и философские смыслы, пронизывающий как образы и темы музыки, так и характер их композиционного развития и взаимодействия, мы обнаруживаем и в симфонической картине «Иван Грозный», завершенной Рубинштейном за год до поэмы «Дон Кихот». Символизм музыки становится у Рубинштейна прежде всего тончайшими композиционными связями внутри целостной музыкальной ткани произведений, которые при этом являются в первую очередь смысловыми. Образы и темы симфонической поэмы «Иван Грозный», сами по себе обладают исключительным символизмом, смысловой ёмкостью и многогранностью. Помпезная, полная одновременно и «лучезарного», и тяжеловесного, могучего величия тема вступления, ёмко символизирует и деспотическую власть ставшего легендарной фигурой царя, и создаваемую, утверждаемую ею русскую державность, и как таковой контекст общих исторических обстоятельств, на фоне которых разворачиваются события литературного сюжета А. Мея и драмы персонажей. Тема вступления вновь возвращается после сменившей ее, проникновенно-фольклорной по стилистике и структуре «темы Ольги», и выступает уже образом ухаживаний грозного царя, сердце которого пленила прекрасная псковитянка. Личное и общее, их события и драмы, неразрывно и сущностно переплетены в литературном сюжете, борьба героев за любовь сплавлена в нем с исторической драмой становления деспотического государства и подавления остатков свобод древнейших русских городов, и так это конечно же и в образах музыкального произведения, воплощающего сюжет. Ухаживаниям царя суждено быть отвергнутыми – у царя есть соперник, сердце красавицы-псковитянки принадлежит новгородцу Туче, образ этого создан через тему «царского гнева» (в которой конечно же прослеживается структурное родство с помпезной и величавой темой вступления), и ее взаимодействие со вспомогательной темой, драматичной и нарастающей в ее звучании, и с почти «текстуальной» внятностью символизирующей отказ Ольги, ее решимость бороться до последнего, но сохранить любовь и верность суженному. Гнев, порожденный глубоко личными причинами, выливается в исторические решения и поступки царя-деспота, в его окончательное решение подавить свободный и непокорный Новгород – город, где живёт похитивший сердце псковитянки соперник. Решение это проведено в оркестре с максимальной «внятностью» – через характерные, подчёркнутые литаврами удары оркестра, которые в финале произведения станут образом казни Тучи, так и не побежденного царем в сердце Ольги. Далее звучание тем развивается стремительно и с драматической напряжённостью, музыкально подчеркивая исторические события, развернувшиеся вслед за гневом царя и его решением. Отдельно поражает ее символизмом и художественной выразительностью центральная «царская» тема – сложная по структуре, она одновременно олицетворяет и деспотическую волю царя, и его напор в борьбе за выбранные цели, и его сияющее величием торжество в успешном осуществлении целей и планов. Воспитанный в дружбе и личном знакомстве с Мендельсоном, Шопеном и Листом, композитор всю жизнь увлечен проникновением в тайну сущностного родства музыки и поэзии, причем не просто в плане способности этих видов искусств служить и языком философских прозрений и откровений, и способом их обретения, философского мышления в целом, а прежде всего – в аспекте ритмической, метрированной структуры художественной ткани. Эти искания и обретенные в них плоды, мы прослеживаем в «царской» теме – ее ритмическая структура чуть ли не впрямую заимствована из тех архаичных поэтических метров, которые Лермонтов, к примеру, использует в его «песнях» и поэмах на темы эпохи Ивана Грозного. Та кульминационная часть темы, которая символизирует торжество царя и его воли в победе над непокорными городами, построена с контурным и утонченно ненавязчивым использованием «фольклорных» элементов – ее ладно-гармоническая структура включает в себя тона «колокольного боя» и «ниспадающие» гармонические движения, характерные для русских танцевальных мотивов. Однако – такой «контурности» и строгой целесообразности в обращении к «фольклорным формам», которая была поставлена композитору в этом произведении в упрек (в музыке на русский сюжет якобы нет «подлинной русскости», под чем понимается выпуклое, довлеющее и эстетически самодостаточное использование элементов народной музыкальности), оказывается вместе с тем достаточно для создания символичного, смыслово емкого и выразительного художественно-музыкального образа, в известной мере хрестоматийного его достоинствами, и в его сути и символизме перекликающегося с образами Ивана Грозного, создающимися в русской литературе этого периода. Вообще – симфоническая картина «Иван Грозный» выступает произведением, могущим служить образцом художественно адекватного, соразмерного и целесообразного использования в музыкальном творчестве «фольклорности», включающей как музыкальные формы и общую стилистику образов и тем, так и художественную переработку соответствующих мотивов. В «фольклорном» ключе созданы проникновенные, исключительные по силе и красоте художественной выразительности темы Ольги и Тучи, «фольклорные» элементы контурно использованы в построении «царской» темы, и этого оказывается достаточно для создания музыки, богатой смыслами и художественным символизмом, сочетающей таковые с эмоциональной проникновенностью и способностью к глубокому воздействию на восприятие слушателя. Целостный образ соперничества царя и новгородца, а так же борьбы остатков свободы старых русских городов с утверждающей себя деспотической властью, емко и символично создан через столь любимое композитором, сложное полифоническое взаимодействие темы Тучи с «царской» темой. Мощное кульминационное звучание последней, создаёт образ победы и торжества царя над непокорными городами, а те же удары оркестра, которые в начале произведения символизировали трагические, порожденные гневом и отверженностью решения властителя, становятся чуть ли не визуальным образом казни царем своего соперника. В целом – как в описываемых произведениях, так и в большинстве музыки композитора, поражают именно глубочайший художественный символизм, достигающий нередко почти «текстуальной» внятности, смысловая ёмкость и многогранность. Образцы искусства художественно-философского символизма в музыке, делающего доступными воплощение и разработку сюжетов, сложнейших как по их чисто литературной фабуле, так и по множественным философским коннотациям и смыслам – вот, чем предстают слушателю описанные здесь симфонические поэмы и картины Рубинштейна, и именно поэтому, на основе опыта вдумчивого и глубокого восприятия, цинизм и нарочитость, с которыми эти произведения традиционно отвергаются и лишаются в русском музыковедении художественной ценности, предстают в особенности шокирующее. О поэме Фауст вскользь бросается, что она представляет собой «нечто художественно неудобоваримое», о поэме «Дон Кихот», ценность которой в особенности исключительна, поскольку в истории классической музыки, помимо нее, существует лишь ещё одна разработка этого сюжета в таком жанре Р. Штраусом, с цинизмом откровенного противоречия истине отмечается, что она представляет собой «плоскую музыкальную копию чисто сюжетной канвы литературного произведения». О симфонической картине «Иван Грозный» со смакованием подчеркивается, что «Римский-Корсаков с возмущением ушел с ее премьеры», сам факт чего, подразумевается, раз и навсегда очертил художественный уровень этого произведения. При этом, забывают упомянуть, что сам Римский-Корсаков в этот период с трудом создаёт произведения этого жанра на куда более простые сюжеты («Садко», к примеру), и в плане символизма и художественной выразительности гораздо более блеклые и плоские, перерабатывавшиеся им спустя десятилетия с целью привести их в более менее завершенный и полноценный вид. Забывают отметить, что спустя несколько лет большая часть произведений этого композитора, написанных в попытке овладеть языком и инструментарием «классического» музыкального наследия, будут по справедливости вызывать насмешки их откровенной неудачностью, причем с самых разных сторон. Забывают указать и на тот факт, что в наследии Римского-Корсакова, постулируемого на роль классика-основоположника русской музыки, очень значительно число произведений именно неудачных, обладающих только вот той самой пресловутой «исторической ценностью», к которой столь же упорно, сколь по результатам безуспешно, пытались свести композиторское творчество Рубинштейна. Забывают так же отметить, что произведения на философски символичные сюжеты из европейского культурного поля, в русле адекватного таковым музыкального и стилистического языка, композиторами «могучей кучки» создавались исключительно мало и по большей части неудачно – программно и длительно возводившиеся стены неприятия, предубеждений и шор в отношении к стилю и наследию европейской музыки, обращались неспособностью с творческой ограниченностью и вдохновенностью ощущать востребованный такими сюжетами музыкальный язык, отсутствием инструментария для их состоятельной разработки, как таковой ограниченностью творчества этих композиторов в горизонтах сюжетности и художественных замыслов. Отношение подобного рода к обсуждаемым произведениям Рубинштейна, и его композиторскому наследию в целом, традиционно и в течение почти полутора веков преемственно, имеет глубинные причины, и не может быть объяснено только полемикой противоборствующих художественных лагерей, превратившейся в советский период в цепь эстетических идеологем, фундаментальных клише стереотипов узаконенного художественно-эстетического мировоззрения. В поэмах «Фауст» и «Дон Кихот» вызывало неприятие очевидное – обращение к сюжетности и стилистике, считавшимся «чуждыми» творчеству и художественно-национальной идентичности русского композитора (подобное происходило и в отношении аналогичных произведений Чайковского самых разных жанров). Кроме того – к той стилистике и сюжетности, творчество в которых было попросту недоступно композиторам «могучей кучки», ещё при жизни возводившихся в ранг корифеев и классиков русской национальной музыки. В отношении к симфонической картине «Иван Грозный» основные упрёки состояли всегда в том, что в ней якобы звучит «не русская» музыка, что «русская», обладающая фольклорно-стилистическим своеобразием музыка на «русский» сюжет, должна писаться «иначе». При этом – под подобным «иначе» понимались эстетические установки и предпочтения, взгляды на музыку и ее «национальный характер» лишь одной определенной школы, мыслившей таковые при этом абсолютными и незыблемыми, единственно приемлемыми и легитимными в пространстве русской национальной музыки. Под пресловутым «иначе», понимались довление и выпуклость «фольклорной» стилистики, всеобъемлющее использование переработки «фольклорных» мотивов как основы создания образов и тем, а так же – пренебрежение теми данными в опыте «классического» наследия принципами композиции, с помощью которых Рубинштейн как раз и достигает глубочайшего, удивительного символизма музыки его произведений. Собственно, не будет откровением констатация того факта, что эстетика «могучей кучки» представляла собой своеобразное музыкальное «сектантство» и «старообрядничество» – в смысле исповедания «народничества» и парадигмы некого «художественно-эстетического фундаментализма», тенденциозности и догматичности эстетических представлений и установок, взгляда на цели, идеалы и предназначение музыкального творчества, в конечном итоге – в плане исповедания «сакрального» идеала создания музыки, обладающей стилистическим, «фольклорно-национальным» своеобразием. Прежде всего – в плане культа создания «национальной», обладающей «национальным характером и своеобразием» музыки, исповедания взгляда на музыку как искусство «всеобъемлющее национальное», призванное служить «национального» толка эстетическим идеалам, замкнутое на «национальной» сюжетности и специфической «фольклорной» стилистике, мыслимой в качестве «эталонно национальной» и единственно приемлемой для творчества русского композитора. Все, и зачастую с самых разных сторон, говорит о «художественном сектантстве», имеющем истоки в социо-культурных аффектах и процессах (национализм, борения национальной идентичности, «народничество») – и «эстетический фундаментализм», сакральное исповедание «фольклорной» музыкальности в качестве языка и инструмента, «почвы» и истоков творчества национального композитора, и замыкание на таковой музыкального творчества, и «яростное», радикальное отрицание языка и творческого опыта, данного в «классическом», общем для мировой музыки наследии, и отдающие обрядностью и культом, попытки коллективного творчества на «русские» и «фольклорные» сюжеты в соответствующей фольклорной стилистике. Особенно примечательны и характерны именно попытки коллективного творчества в русле «фольклорности» – за ними совершенно очевидно стоят культ и исповедание «национальности» музыки в плане как определяющих ее творчество эстетических идеалов, так и ее «стилистического своеобразия», культ высшей ценности «национального» и «народного» в музыке, ее «национальной идентичности и сопричастности. Да и сам по себе творческий кружок, сформированный с целью. изучения сакрализуемой «фольклорной» музыкальной традиции, и создания на этой основе «национальной» и «русской» музыки, обладающей внятным «национальным своеобразием», слишком очевидно напоминал «художественную секту», объединенную исповеданием и культом «национального» и «народного» в искусстве, «национального» толка эстетических идеалов, «вера» которой была порождена прежде всего влиянием на область искусства и эстетического сознания глубинных социо-культурных процессов в России второй половины 19 века – национализма, борений национальной идентичности и «антизападнических» настроений, «народничества». «Сектантство» в деятельности и эстетике «могучей кучки» очевидно, о нем говорят в первую очередь столь характерные для подобных форм сознания тенденциозность и догматичность художественно-эстетических установок и взглядов, радикальная нетерпимость к мировоззренчески и стилистически «иному», ставшая отрицанием и нивеляцией этим кругом творчества в частности тех композиторов, которые впоследствие стали подлинным и выдающимся «лицом» русской национальной музыки, к примеру – Чайковского. Однако – никто и никогда не решался высветлить в общем-то уродливые противоречия и предрассудки, из которых по большей части было соткано эстетическое сознание «могучей кучки», тенденциозность и нередко смехотворную «мракобесность» взглядов и установок этого творческого круга, а так же порочные последствия гегемонии и влияния таковых в пространстве русской музыки «золотого века», ведь подлинные, обладающее общечеловеческим и непреходящим значением творческие свершения, скачки и горизонты развития, приходили в русскую музыку этого периода в основном именно вопреки взглядам и предрассудкам этого объединения композиторов. Более того – горизонты и этапы развития в сам «стасовский» и «кучкистский» круг, парадоксально и забавно приходили именно вопреки определяющим его эстетическое сознание, «сакральным» предрассудкам и установкам. Ведь утверждение «всеобъемлюще национального» взгляда на музыку как искусство, ее предназначенности служить «национального» толка эстетическим идеалам, исповедание «национально-стилистического своеобразия» музыки как высшей художественно-эстетической цели, как мы неоднократно подчеркиваем в этом тексте, стало сущностной ограниченностью музыкального творчества, сужением его сюжетно-тематических горизонтов, его отдалением не просто от диалога с общекультурным пространством и вовлеченности в таковое, а от «экзистенциальных» горизонтов и целей в принципе. Факт в том, что мировоззренческо-идеологическое превращение деятельности «могучей кучки» в советский период в «стержень» и «определяющую линию» становления русской национальной музыки, исключало возможность критического и трезвого взгляда на таковую, на обосновывающие ее эстетически установки, а так же «априори» лишало права быть воспринятой и услышанной ту другую сторону русской музыки «золотого века», с которой кружок «кучкистов» находился в программном и непримиримом оппонировании. Говоря иначе (и возвращаясь к симфонической картине «Иван Грозный») – удивительная ее выразительностью, символизмом, уместным и одновременно ненавязчивым использованием «фольклорных» элементов музыка Рубинштейна, отрицалась и лишалась художественного значения лишь на том основании, что противоречила пристрастиям и предпочтениям, эстетическим идеалам определенного музыкального кружка, взглядам такового на музыкальное творчество вообще, на русскую музыку, ее «национальный характер» и принципы ее создания в частности. Увы – в знакомстве с традиционно принятыми и устоявшимися, считающимися «неприкасаемыми» оценками музыки композитора, зашоренность и нарочитость суждений, их пронизанность программной, идеологически и «корпоративно обоснованной» нацеленностью на отрицание и нивеляцию, предстает особенно шокирующей на фоне удивительных художественных достоинств этой музыки – символизм, смысловая глубина и выразительность, пронизанность философизмом, поэтикой и правдой экзистенциальной исповеди – которые обнажает непосредственный опыт вдумчивого и непредвзятого восприятия. Безусловно – превращение отрицания и нивеляции композиторского творчества Рубинштейна в программную идеологему, было в немалой степени связано с чисто корпоративными интересами «могучей кучки» и накалом ее противостояния с рубинштейновским лагерем «романтиков» и «неоклассиков», а так же манипуляциями с областью музыкально-эстетического сознания в советский период, подразумевавшими расставление предельно четких и ясных акцентов, максимальное упрощение взглядов на русскую музыку, ее историю и тенденции ее генезиса, «прекрасное» и «правильное» и «ошибочно-негативное» в ней. Собственно – вследствие исторически состоявшегося, залегшего в исторический фундамент русской классической музыки художественного конфликта, низложение Рубинштейна-композитора, его творчества и наследия, было в неотвратимо обусловлено и предсказуемо в той же мере, в которой композиторы «могучей кучки» официально постулировались в качестве «стержня» генезиса, исторического становления и формирования русской музыки, олицетворения «подлинных и прогрессивных тенденций» в таковой. Однако – подобное отношение наметилось ещё при жизни композитора, нивеляция и приговор забвения были выношены «стасовским кругом» и очерчены как установка сразу по его смерти – уже в некрологе «Руки Рубинштейна» Стасов выпускает в публику мысль о «великом и непревзойденным пианисте», но «несостоятельном», «изуродованном чуждыми влияниями и тенденциями», в целом «чуждом русской музыке и ее идеалам» композиторе, чисто композиторская популярность которого зиждилась только на его пианистическом успехе и авторитете, и по-справедливости должна «кануть в лету». Славословие «рукам Рубинштейна», то есть великому, легендарному пианистическому искусству этого гениального и разностороннего человека, стало на деле довольно циничной уловкой полемизирующей и конфликтующей «корпорации», послужившей ключевым козырем в приговоре забвения для его композиторского наследия – в основе она превратилась в эстетическую идеологему, в клише музыкально-эстетического мировоззрения, которые и ныне являются решающими в оценке наследия композитора и вдохновляют «изыскания» российских музыковедов. Однако – дело конечно не только в этом: отмеченный художественный конфликт был глубинным и сущностным, олицетворял противоречие в пространстве становящейся русской музыки между тенденциями «романтического», экзистенциально-философского универсализма музыкального творчества, и тенденциями «музыкального национализма», ограниченным взглядом на музыку как искусство «всеобъемлюще национальное», стилистически своеобразное и ограниченное в этом. Сущностный универсализм музыкального творчества как языка и способа экзистенциального самовыражения, его неотделимые от этого диалогичность, общекультурная сопричастность и вовлечённость, стилистическая и сюжетно-тематическая открытость, «наднациональная» идентичность – вот то, что вызывало в композиторском творчестве Рубинштейна программное неприятие и отрицание при жизни, и это же —парадоксально, вопреки пройденным русской музыкой этапам развития и историческому торжеству несшихся в ее пространство Рубинштейном идеалов, тенденций и горизонтов – является тем глубинным, что побуждает сохранять «традиционную» верность этой позиции и сегодня. Из творчества Рубинштейна русская музыка предстает искусством, в той же мере сопричастным его национальным истокам, в которой «романтическим» и общечеловечным, универсальным и «наднациональным», открытым общекультурных горизонтам – это было трагически неприемлемым в таковом при жизни композитора, это же обуславливает отторжение и сегодня, в глубинном и парадоксальном сохранении «националистических» установок во взгляде на музыку как искусство. Увы – ничем «сущностным» и «правомочным» объяснить нивеляцию музыки Рубинштейна, проникновенной и глубокой, дышащей мощью самовыражения и движением философской мысли, пронизанной символизмом и нередко небывалой в силе ее воздействия на слушателя, конечно же нельзя. Эта музыка действительно очень часто звучит не «по-русски», в русле «обобщенно-романтической» стилистики – в этом состоит основной, предъявлявшийся ей, и постулировавшийся правомочной причиной для нивеляции, упрек. Однако – вообще предъявляться подобный упрек мог только в националистически извращённом взгляде на музыку как искусство, на ее идеалы, цели и эстетические горизонты, на критерии «прекрасного» в ней. Только в извращённом, ограниченном социо-культурными тенденциями «национализма» и «народничества» взгляде на музыку и музыкальное творчество, могла быть нивелирована ценность проникновенной, пронизанной глубиной самовыражения, философизмом и символизмом музыки, не обладающей при этом внятным и «фольклорным» по принципу, «национально-стилистическим своеобразием», выстроенной в ином, нежели эстетически «сакрализуемый» и «вменяемый в императив», стилистическом ключе. Только в таком искаженном, зашоренном под влиянием внешних, а не «сущностно эстетических» факторов, взгляде и подходе, художественная ценность музыки могла ставиться в прямую зависимость от ее стилистических особенностей, от ее «национальной сопричастности и идентичности», достигаемой в первую очередь за счет ограниченности и своеобразия стилистики, в как таковой абсолютизации в творчестве и музыкально-эстетическом сознании дилемм и аспектов стилистики. Собственно, конфликт Рубинштейна и «кучкистов» во многом был конфликтом профессионального художника, по сути своего творчества обладающего общечеловеческим масштабом, универсального в творчестве и художественно-эстетическом сознании, с аматорами, находящимися во власти националистических по сути, где-то забавных, но уродливых эстетических предрассудков, развитие которых парадоксально происходило в усвоении и восприятии того, что нес клеймимый «чуждым» и «не русским» художником, программно и «сакрально» отвергаемый оппонент. Конфликт Рубинштейна и «кучкистов», в исторической перспективе обернувшийся приговором и угрозой забвения для композиторского наследия Рубинштейна, олицетворял собой конфликт тенденций универсализма и национальной ограниченности в пространстве русской музыки «золотого века», ограниченность парадигмы национальной и художественной идентичности русского композитора и его творчества, насаждаемой стасовско-кучкистским кругом в пространстве национальной классической музыки. Речь идёт о конфликте «романтических» и «универсалистских» по сути идеалов художественно-философского символизма, экзистенциально-философского самовыражения и диалога, со стремящимися к гегемонии в пространстве русской музыки эстетическими идеалами «национального» и «народнического» толка, аккумулирующими взгляд на музыку как искусство «социальное» и «всеобъемлюще национальное» – конфликте, олицетворением которого стало противостояние конкретных творческих персон и лагерей. Описываемый конфликт и центральная для него дилемма «художественно-национальной идентичности» русской музыки, сводились к двум ключевым моментам – к ультимативному требованию «национально-стилистического своеобразия» русской музыки и превращения как ритмических и ладно-гармонических особенностей «народной музыкальности», так и обработано используемых «фольклорных» мотивов в целом, в доминирующий язык и инструмент музыкального творчества, единственно приемлемый источник творчества и вдохновения музыкальной мысли, и к радикально-яростным «антиевропейским» настроениям, означавшим программное отрицание как «романтического настоящего» европейской музыки со стилем и художественными идеалами такового, так и ее классического наследия, данного в наследии опыта творчества и исканий, композиционной мысли, обнаружения и развития музыкальных и жанрово-композиционных форм. А потому же – к яростным «антиакадемическим» настроениям, к отрицанию диалога с европейской музыкой , ее опытом, наследием стилями, оплотом которого всегда являются в том числе и институты профессионального музыкального образования.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.