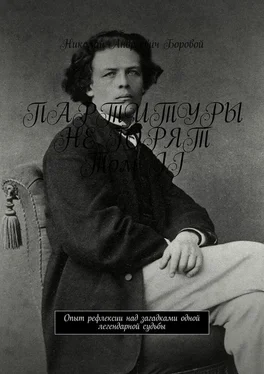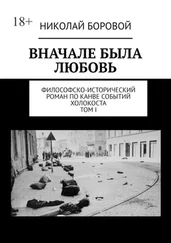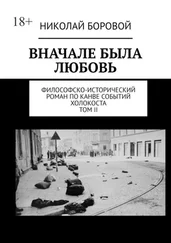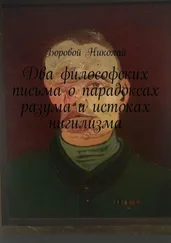Николай Боровой - ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы
Здесь есть возможность читать онлайн «Николай Боровой - ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. ISBN: , Жанр: Критика, Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005086471
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Дилемма «идентичности» композитора и его творчества, национальной и художественной, была поставлена в судьбе и творчестве Рубинштейна чуть ли не символически, фактически – она прошла через весь его творческий путь «красной линией», стала трагическим конфликтом его композиторской судьбы, трагедией отверженности его творчества и творческого наследия. Факт в том, что сам композитор, со всеми определяющими особенностями его творчества, без сомнения ощущал себя русским художником, частью становящейся русской национальной музыки, более того – длительное время был «лицом» этой музыки для европейской музыкальной культуры, и превратил в такое же «лицо» романтически-экзистенциального и универсального в характере творчества П.И.Чайковского. Собственно, из самых истоков творчества, и на протяжении всего творческого пути, композитор свидетельствовал сопричастность национальным истокам своего творчества, разностороннюю связь с культурно-национальным «лоном» такового – это выражалось и во внимании к «национальным» по характеру сюжетам, и в очень рано произошедшем обращении композитора к использованию «фольклорных» музыкальных форм, ритмических и ладно-гармонических особенностей народной музыкальности. Таковые начинают присутствовать в самых ранних его произведениях, значительно раньше, чем композиторы «могучей кучки», впоследствии возведённые в ранг «корифеев» русской национальной музыки, обращаются к их использованию и вообще к полноценному музыкальному творчеству. Симфоническая музыка начинает звучать у Рубинштейна «по-русски», с глубоким художественным ощущением и утонченным использованием выразительных возможностей «фольклорных форм», гораздо раньше, чем у «корифеев» – в Третьей симфонии, написанной в 1857 году (достаточно вспомнить, что единственную попытку написать одночастную симфонию, М. Глинка осуществил в «итальянской» манере, а русская по стилистике, Первая симфония Римского-Корсакова, появится на свет лишь семь лет спустя). Если же говорить о серенаде из ор. 22, то музыку, настолько подлинно «русскую», пронизанную глубиной самовыражения и ощущения «фольклорных форм» как языка такового, в творчестве «корифеев» возможно встретить совсем не часто. Вовсе не часто у апологетов «фольклорности» и характерных для нее музыкальных форм, такие формы, или достаточно откровенная обработка «фольклорных» мотивов, становятся символичным, вдохновенно-поэтичным и выразительным языком для сложных смыслов эмоционально-нравственного, экзистенциального и философского плана. К великому сожалению, «фольклорные» формы и мотивы, нередко привносятся композиторами «могучей кучки» в музыку довлеюще и «художественно самодостаточно», а не как совершенный и глубоко прочувствованный язык и инструмент выражения, что и не удивительно, ведь «национальное» и «фольклорное» мыслится ими прекрасным и ценным в музыке «само по себе», превалирует в их установках над художественно-эстетической ценностью самовыражения, его глубины и правды, возможностей философского осмысления мира в музыке. О том, насколько Рубинштейн ощущал себя русским художником и композитором, а свое творчество – глубоко связанным с пространством русской культуры, музыкальной и в целом национальной, отдельно и бесспорно говорят его просветительские усилия, объемлющие как создание и развитие системы профессионального музыкального образования в России, так и последовательное, утверждаемое в противостоянии, обращение к диалогу с европейской музыкой, ее наследием, идеалами и горизонтами, исканиями и выдающимися свершениями ее романтического настоящего. Все в творчестве и просветительской деятельности Рубинштейна говорит о том, что он ощущает глубокую, неразрывную связь с Россией и русской культурой, что романтическо-экзистенциальный универсализм творчества и эстетического сознания, глубокая и сущностная «европейско-романтическая» сопричастность такового, никоим образом не противоречат в нем его «национальной», «русской» идентичности как художника – на протяжении всего пути, при внятном свидетельствовании и сохранении, последовательном углублении связей творчества с «национальными» истоками, Рубинштейн не отделяет одного и другого, русская музыка ощущается им неотъемлемой частью музыки европейской и де факто общемировой, стоящей перед теми же художественно-эстетическими дилеммами, обращённой к тем же идеалам, целям и горизонтам исканий. Рубинштейн ощущает себя глубоко связанным с Россией, с пространством русской музыки и культуры, однако «не так», как это навязывается и предписывается, в соответствии с художественно-эстетическими идеалами и установками, отличными от постулируемых в качестве «единственно приемлемых» для русской музыки, привнося в нее те горизонты и пути развития, тенденции и веяния, которые в течении жизни композитора объявляются для русской музыки «чуждыми» и программно, яростно отвергаются. В этом, собственно, и заключался корень проблемы, поскольку то, что было для Рубинштейна едино и неразрывно – национальная сопричастность музыкального творчества и его универсализм, романтичность, сущностная вовлеченность в общекультурное поле и как таковое пространство европейской и мировой музыки – программно, яростно разводилось и противопоставлялось в той модели художественно-национальной идентичности, которая в течение всей жизни композитора навязывается русской музыке, а в отношении к тому, к глубокому диалогу с чем композитор последовательно обращал, в этот период торжествует радикальное и почти «сакральное», обосновывающее идентичность и эстетическое сознание, отторжение. Римский-Корсаков, первым из композиторов «могучей кучки» решившийся перешагнуть через стены предрассудков и барьеры отторжения в отношении к европейской музыке, ее наследию и стилю, и обратившийся к изучению «классических» музыкальных и жанрово-композиционных форм, созданию в их русле музыки, звучащей как «европейская», немедленно заслужил эпитет «бездушного изменника» и «надевшего парик профессора», написанное же им – «слякотного наваждения»: антиевропейские настроения, нередко обращающиеся смехотворными и «мракобесными» предрассудками, носят в «титульно русской» музыке в этот период программный, яростный и чуть ли не «сакральный» характер. Все дело именно в том, что композиторским творчеством и просвещением Рубинштейн нес как раз те веяния, влияния и тенденции, «программное» отрицание которых в этот период насаждается в особенности, которым по сути противоставляется русская музыка в ее национальной и художественной идентичности. Русская музыка мыслится «стасовским кругом» национально идентичной в той же мере, в которой стилистически своеобразной, национально ограниченной и замкнутой, подчиненной эстетическим идеалам «национального» толка, идентичной и самобытной именно на основе ее программного противоставления музыке «европейско-романтической» и погруженности в «фольклорность» как язык и инструментарий, почву и истоки музыкального творчества. Фигура же Рубинштейна несла с собой нечто прямо противоположное – универсализм и общечеловечность музыкального творчества, его общекультурную сопричастность, стилистическую и сюжетно-тематическую открытость, приоритетность в нем сущностного, экзистенциально-философского и связанного с самовыражением, над «национальным» и «стилистическим», то есть – то, что объемлемо понятием «романтичности» музыкального творчества и подразумевало глубокий диалог русской музыки с музыкой европейской, ее наследием и «романтическим настоящим». Более того – все эти тенденции и веяния сочетались в творчестве и эстетическом сознании Рубинштейна с национальной сопричастностью и идентичностью музыкального творчества и композитора, национальная музыка, в ее сути и идентичности, обращалась им именно к таким целям и идеалам, тенденциям и горизонтам развития, в чем состояла наибольшая, исходившая от этой фигуры угроза. Внешне может показаться, что в перипетиях его судьбы, в его национальной и художественной идентичности как композитора, Рубинштейн «метался» и был раздираем между мирами русской и европейско-романтической музыки, однако, на самом деле это не так – композитор был «дуидентичен» в его творчестве и эстетическом сознании, «национально-русская» и «европейско-романтическая» сопричастность не противоречили в нем и его творчестве друг другу. Рубинштейн не переставал быть «европейским» и «романтическим» композитором, когда создавал симфоническую поэму «Россия», Второй виолончельный концерт и «Русское каприччо», и русским – пишучи многочисленные, пронизанные экзистенциально-философским самовыражением произведения в «романтической» стилистике и на сюжеты из общекультурного поля. В этой же, «органично двойственной» идентичности творчества, композитором был воспитан и Чайковский, в фигуре и творчестве которого отвергалось то же самое – романтическо-экзистенциальный универсализм, сопричастность общекультурное полю и «наднациональность», стилистическая и сюжетно-тематическая открытость. Чайковский не переставал быть «русским» композитором в Пятой и Шестой симфониях, в «Манфреде» и «Ромео и Джульетте», а «европейско-романтическим» и «мировым» – в фортепианных концертах, и в подобной органичном единстве в его творчестве «универсального» и «общечеловеческого» с «национальным», «европейско-романтической» сопричастности – с «русской», Чайковский был воспитан именно Рубинштейном. «Романтическая» парадигма музыкального творчества в той же мере подразумевала общечеловечность и экзистенциально-философским универсализм такового, в которой не противоречила его сопричастности «национальным» истокам, позволяла органично впитывать и использовать в нем самые разнообразные национальные элементы, ставя таковые на службу сущностным художественно-эстетическим целям. «Русское» и «европейско-романтическое» противопоставлялось и разводилось только в той модели эстетического сознания и художественно-национальной идентичности музыкального творчества, которая навязывалась «стасовским» и «кучкистским» кругом, прежде всего – под влиянием общих для русской культуры этого периода тенденций и процессов национализма, борений идентичности, включавших «антизападнические» настроения (стасовский круг был олицетворением таковых), а так же вследствие отождествления «национальной идентичности и сопричастности» русской музыки с «фольклорным своеобразием» и ограниченностью ее стилистики. Основной упрек, и доныне предъявляющийся Рубинштейну, затрагивает именно то, что композитор позволял себе творчество в «универсальной», «романтической стилистике», якобы неприемлемой для русского композитора и национальной музыки, что в стилистике «фольклорно-национальной», предписываемой в качестве чуть ли не единственного художественного языка и инструмента, он создавал якобы недостаточно. «Фольклорно-своеобразная», концептуальная и ограниченная стилистика, мыслится неким «маркером» русской музыки, основой и олицетворением ее национальной идентичности, предписывается ей чуть ли не в качестве единственного и всеобъемлющего языка, Рубинштейн же привносит в ее пространство творчество в стилистике «романтической» – «обобщенной», «национально отстраненной» и «универсальной»: в этом заключена одна из главных причин, по которым творчество и деятельность композитора оценивались как «чуждые русской музыке», программно отвергались. В случае с отношением к творчеству Рубинштейна мы сталкиваемся с тем и знаковым, и парадоксальным, и принципиально порочным феноменом, когда ценность музыки – к слову, пронизанной символизмом, глубиной и правдой экзистенциально-философского самовыражения – априори отрицается и нивелируется по причине ее стилистической инаковости: сам этот факт ёмко раскрывает суть и характер противоречий в русской музыкальной культуре второй половины 19 века, в господствующем в ее пространстве эстетическом сознании. Гениальный его проникновенной выразительностью и вдохновенной поэтичностью октет Рубинштейна, ор. 9, безусловно не является «русской» музыкой, в том значении, которое придается этому понятию стасовским и кучкистским кругом на протяжении всего обговариваемого периода – музыка произведения «эталонно романтична» в плане и стилистического языка, и принципов композиции, в ней отсутствует какая-либо обращенность к «фольклорным» формам и их использованию. Однако – хоть и возмутительно, и где-то чудовищно представить, что эта проникновенная и вдохновенная, полная экстазом самовыражения и экзистенциально-философским символизмом музыка, могла быть сочтена «не русской» в смысле ее чуждости и неприемлемости для пространства национальной музыкальной культуры, отсутствия права на признание и будущее в таковом, что по причине ее стилистической «инаковости» и «национальной отстраненности», она могла быть заклеймена «пошлостью», фактическое положение вещей и доныне обстоит так. Описываемая дилемма «идентичности» была навязана судьбе и творчеству композитора извне —музыкальной средой, находящейся во власти аффектов национализма в той же мере, в которой и зачастую «мракобесных» художественно-эстетических предрассудков, собственно – основным в отношении к творчеству композитора и до сих пор является обвинение в «нерусскости» или «недостаточной русскости». «Романтическая» музыка, созданная композитором, постулируется как то, что в принципе чуждо и неприемлемо для национальной музыкальной культуры, а «русской» музыки им создано якобы мало, и в большинстве случаев она якобы лишена подлинности и убедительности, не обладает достоверностью «национально-стилистического своеобразия» – таковы набившие оскомину обвинения и шоры восприятия и оценок, однако тем истинным, что кроется за ними, являются в основе порочная парадигма русской музыки как музыки «стилистичной», стилистически своеобразной и ограниченной, продиктованная этим нетерпимость к «стилистически иному», и вызывавшее ярость вдохновенное и талантливое сочетание композитором в творчестве «разных» стилистических языков. Догматическими являлись не только общие взгляды «стасовско-кучкистского» круга на национальную музыку, ее цели, пути и горизонты развития – таковыми были взгляды и на ее «национальное своеобразие» и средства достижения такового, на ее «русскость», то есть на сам «национальный музыкальный характер» и те формы, которые правомочны олицетворять его. Рубинштейн конечно же ощущал себя русским художником, был им и стремился быть, однако – «не так», как предписывается в этот период в господствующих эстетических установках, как ставится дилемма «национального» композитора и художника, «идентичности» музыкального творчества. Все дело состояло, собственно, в том, что композиторское творчество Рубинштейна, сформировавшееся и происходившее в романтической парадигме, вобравшее в себя «классический» романтический стиль и такие ключевые особенности романтической музыки, как универсализм, обращенность к горизонтам экзистенциально-философского самовыражения и художественно-философского осмысления мира, сюжетно-тематическая и стилистическая открытость, не вмещалось в ту тенденциозно-догматичную, националистически ограниченную модель художественной и национальной идентичности, которая навязывается русской музыке во второй половине 19 века. В этом состоит причина, по которой пресловутая «дилемма идентичности», трагически и бескомпромиссно ставилась в отношении к творчеству композитора и при жизни, и в течение более чем века после смерти, а обвинение его творчества в «нерусскости» было и остаётся предрассудком-клише и циничной уловкой, обосновывающей отрицание и нивеляцию такового. Собственно – те же уничтожающие претензии и упрёки, обвинения в «нерусскости творчества», которые предъявлялись Рубинштейну и были предназначены оправдать и обосновать отрицание его творчества, могли быть выдвинуты в отношении ко многим композиторам, формальной конвой творчества и судьбы связанным с пространством русской музыки, к примеру – Давыдову и Вейнявскому (оба, благодаря Рубинштейну, профессора Петербургской консерватории). Вся проблема состоит в том, что оба эти композитора и не воспринимались как «русские художники», а потому – к их творчеству не предъявлялись те ограничивающие и нередко мракобесно абсурдные, «националистические» и «социо-культурные», а не «эстетические» по истокам требования, с которыми в господствующих и навязанных стасовско-кучкистским кругом установках, связывается национальная и художественная идентичность русского композитора и его творчества, кроме того – никто из композиторов, работавших в «универсалистской» и «европейско-романтической» стилистике и манере, парадигме музыкального творчества в целом, не обладал такой мощью, глубиной и концептуальностью влияния на мир русской музыки, как Рубинштейн. Влияние Рубинштейна – творческое, идейно-художественное и просветительское, мощь и масштаб такового – вот, что вызывает чувство угрозы и побуждает программно отрицать творчество и деятельность композитора, ведь несомое им на уровне тенденций, идеалов и горизонтов – универсализм и общекультурная сопричастность, сюжетно-тематическая и стилистическая широта музыкального творчества, наиболее отвергается в этот период господствующими и догматично утверждающими себя в пространстве русской музыки эстетическими установками.Рубинштейн нес своим творчеством и просветительской деятельностью то, что постулировалось как «чуждое» и яростно отвергалось – романтический стиль, глубину диалога с европейской музыкой и ее наследием (вопреки «антиевропейским» настроениям и ультимативному требованию творчества в «фольклорно-национальной» стилистике), универсализм и общекультурную сопричастность, сюжетно-тематическую широту музыкального творчества, укоренённые в его экзистенциальности и философизме (вопреки стремящемуся к гегемонии взгляду на музыку как искусство «всеобъемлюще национальное»), причем нес мощно и убедительно, вдохновенно обращая и вовлекая в свою «художественную веру»: в этом состояли противоречие и причина радикального отторжения этой фигуры во всей особенности и многогранности таковой
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.