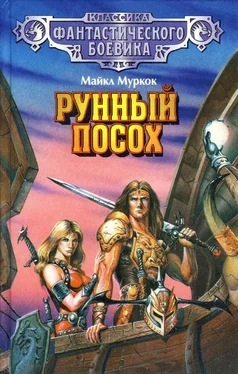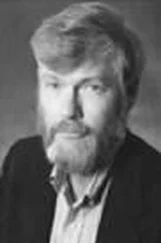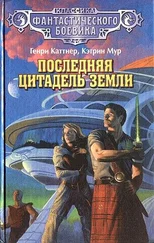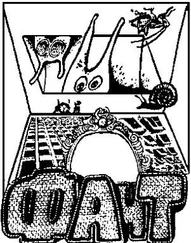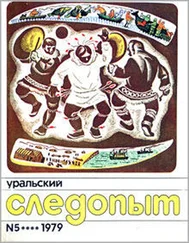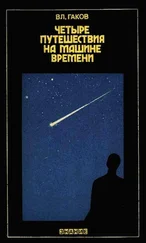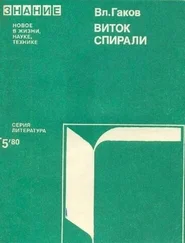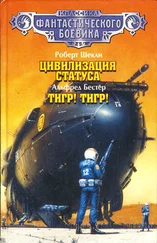Все это были произведения добротные, в меру острые, но по-прежнему не выбивавшиеся из общего ряда.
Первым произведением, в котором писатель Муркок ярко и мощно продемонстрировал, на что способна «новая» фантастика, стала повесть «Се Человек» (1966), удостоенная в том же году премией «Небьюла» [12] Кроме того, Муркок в том же году завоевал Премию Ассоциации британских писателй-фантастов.
и позже переписанная в одноименный роман (опубликован в 1969 году).
Герой ее, Карл Глогауэр, измученный психологическими комплексами и, мягко сказать, неустроенностью личной жизни, ищет утешение и своеобразную сексуальную сублимацию в путешествиях в прошлое. Решив встретиться с историческим Христом, он посещает Иерусалим в год казни Спасителя и не находит там мессию, чудотворца и богочеловека – в реальной истории есть только местный слабоумный, которого все зовут Иисус из Назарета. Никто его в грош не ставит – о каком уж основателе новой религии может идти речь! Однако больная душа Глогауэра жаждет очищения, катарсиса, к тому же его настойчивые поиски какого-то Царя Иудейского, странные речи и поведение заставляют присмотреться к нему повнимательнее – и тех, кто увлекся его речами, и тех, кого они насторожили и не на шутку испугали...
Конец героя нетрудно предугадать. Зато земная история осталась неизменной: событие, во многом определившее последующие 20 веков новой эры, свершилось – на холме Голгофа, в I веке эры, названной именем... кого? Карла Глогауэра? [13] Читатель встречается с ним и в романе «Завтрак среди руин» (1972).
Путешествий в прошлое с целью корректировки земной истории и до Муркока было создано немало. Однако такого еще не было, и неслучайно уже не раз цитировавшийся Олдисс назвал повесть «Машиной времени», которая и в кошмарном сне не могла присниться Уэллсу».
Талант Муркока-мастера иронической фантастики на грани пародии, а то и прямой мистификации, ярко раскрылся в серии романов «Кочевники небес»: «Полководец воздуха» (1971), «Левиафан суши» (1974), «Стальной царь» (1982), – объединенных «потерявшимся» во времени путешественником по имени Освальд Бастейбл. Действие ее разворачивается в очередной альтернативной истории – начале и середине 20 века, в котором вторая мировая война так и не разразилась. Это и своеобразная добросовестная реконструкция грез и мечтаний о будущем, посещавших англичан во времена царствования Эдуарда VII. И едкая насмешка над любыми упованиями на возврат к «добрым старым временам», о коих мечтает путешественник, выросший и сформировавшийся еще в викторианскую эпоху, в Империи, «над которой никогда не заходило солнце»...
Герои другой экспериментальной серии Муркока – бессмертные скучающие декаденты далекого будущего, мира «на краю времен». Серия состоит из трилогии – «Тепло чужака» (1972), «Пустые земли» (1974), «Конец песням» (1976), – позже вышедшей в одном томе как «Танцоры на краю времен» (1980), – и примыкающих к ней сборника «Легенды с края времен» (1976) и романа «Превращение мисс Мэвис Минг» (1977; также выходил под названием «Мессия на краю времен»).
Это, пожалуй, единственный цикл произведений Муркока, в котором сделана попытка описания Рая. Однако он и скучноватым получился на диво, да и неприкрытая авторская ирония лишь усилена водопадом словесных игр и стилистических изысков, в которых на этот раз писатель, кажется, превзошел себя. Читатель встретит не только многих героев Муркока, как бы забредших на «край времен» из других серий: уже знакомых нам Эльрика, Карла Глогауэра и Освальда Бастейбла, Уну Персон (это имя встретится нам чуть позже) и Огненного клоуна из раннего одноименного романа, – но и персонажей с вполне говорящими именами и фамилиями – Вертера де Гёте, Герберта Уэллса, и даже Эдгароаргонового По. А местом действия постоянно становится Вечный Город Танелорн (Шаналорн), главная цитадель вселенского Порядка, также неоднократно упоминаемая в книгах писателя.
А какое раздолье для литературоведов-структуралистов и философов! Сколько модных слов может быть произнесено! Тропы, карнавализация, классический нонсенс и более свежий постмодернизм с его принципиальным смешением великого со смешным – и цитатой, поставленной во главу творчества; оксюморон (соединение несоединимого) и просаподосис (сознательное повторение слов и группы слов), реинкарнации и космология, фрейдизм и архетипы Юнга, учение об актантной модели...
Другой вопрос – что в сухом остатке, если выпарить всю эту словесную мишуру?
Читать дальше