По замечанию М. Гуса, некоторые исследователи полагают, что Достоевский не пришел к выводу, как же именно мотивировать убийство, и в романе остались две «не согласованные между собой» мотивировки, осталась неопределенность.
М. Гус выходит из затруднения с помощью диалектического метода: «На наш взгляд, такой неопределенности нет. Вначале у Достоевского были колебания, но он их решил, диалектически сочетав обе мотивировки...
Раскольников вынужден убить, чтобы вырвать мать и сестру из рук Лужина и спасти себя от голодной смерти.
В итоге: Раскольников хочет или ему кажется, что он хочет быть д о б р ы м Н а п о л е о н о м.
Вначале — злодейства, совершаемые по «праву сильного», а затем — добрые дела с помощью средств и власти, приобретенных в результате злодейства».
Казалось бы, дело объяснено ясно, точно и прогрессивно. Однако Раскольников, словно предчувствуя, что о нем будут писать, восклицал: «Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор!» — и искренность этого восклицания несомненна. Если же его все-таки игнорировать, возникает вопрос: почему Раскольников не воспользовался деньгами процентщицы?
На это отвечается так: у Достоевского были намерения заставить Раскольникова использовать добытые преступлением деньги для «добрых дел» (например, спасение Сони), но он отказался от такого плана, так как «добрые дела» убийцы доказывали бы, что можно быть «добрым Наполеоном», а роман должен был доказать обратное.
А это вовсе непонятно.
Чем сильнее писателя увлекает замысел, тем безнадежнее ждать от него манипуляций, направленных в угоду заранее выдуманной схеме, какой бы заманчивой она Ни казалась.
Вживаясь в материал, в души персонажей, писатель все глубже (и иначе, чем перед началом работы) познает и переживает внутренний смысл явлений, ему отчетливей раскрывается сущность героя. И наконец, когда художественный смысл вещи проявляется окончательно, временные по́дмости первоначально намеченного плана рушатся.
В сущности, сочинение пишется и десятки раз переписывается для того, чтобы в процессе писания осознать смутно мерцающую тревожную мысль.
В той же мере, в какой художник осваивает материал, овладевает им, в той же мере и материал овладевает художником, не позволяет художнику своевольничать.
Все это М. Гусу, конечно, известно Неужели исследователь полагал, что это было неизвестно Достоевскому?
12
Одной из основных проблем, одухотворяющих героев Достоевского, была проблема взаимоотношений человека и окружающей его среды. Философы-идеалисты создали два полярных решения этой проблемы. Одно из них (характерное, между прочим, для современного атеистического экзистенциализма) пессимистическое. Состоит оно в том, что бытие само по себе не содержит ни смысла, ни цели и противостоит человеку как нечто «плотное, массивное, грубое и безразличное» (Сартр). Волею случайных совокуплений заброшенный в это мертвое море, человек не может не испытывать чувства безнадежности. Природа мерещится ему то в виде глухого, темного и немого существа, то в виде громадной машины новейшего устройства, которая бесчувственно захватывает, дробит и поглощает человеческие жизни. При таком положении вещей, пожалуй, лучший выход — смерть, самоубийство. Такой выход и выбирает один из персонажей Достоевского — Ипполит.
Другое представление о бытии — как о чем-то движущемся, по видимости оптимистическое. Оно выражает веру в непрерывный автоматический прогресс. История стремится вперед и вперед, сквозь мор, войны, социальные потрясения — к какой-то неведомой цели, и человек, хочет он того или нет, обречен на грядущее счастье.
Нелишне напомнить, что Гегель, один из творцов оптимистического детерминизма, испытал, взирая на свою грандиозную философскую конструкцию, «чувство беспомощной скорби».
Оба эти представления — и пессимистическое и по видимости оптимистическое — предлагают человечеству пассивное ожидание: первое — ожидание смерти, второе — ожидание счастья.
При этом общество, общественная среда выступает как анонимный диктатор, которого, словно в «Замке» Ф. Кафки, никто никогда не видел, но деспотическую власть которого все чувствуют на своей шее. Получается, как сказал А. Грамши, будто «существует абстракция коллективного организма, своего рода самостоятельное божество, которое не мыслит какой-то конкретной головой и тем не менее все же мыслит, которое не передвигается с помощью определенных человеческих ног и тем не менее все же передвигается».
Читать дальше
![Сергей Антонов От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант] обложка книги](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-cover.webp)

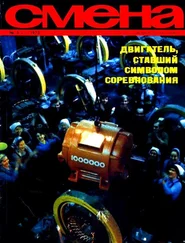
![Сергей Михеенков - Солдатский маршал [Журнальный вариант]](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-thumb.webp)
![Сергей Григорьев - Гибель Британии [журнальный вариант]](/books/123722/sergej-grigorev-gibel-britanii-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)





![Сергей Антонов - Два автомата [Рассказы]](/books/423815/sergej-antonov-dva-avtomata-rasskazy-thumb.webp)
