К числу главных достоинств своего друга Уотсон относил абсолютное хладнокровие во всех случаях жизни. Но это опасное достоинство. Обладатель его редко замечает, когда оно превращается в бездушие.
Деятельность ученого, исследователя, так же как и деятельность поэта или музыканта, требует интеллекта, но интеллекта, оплодотворенного эмоцией.
А когда читаешь, как Холмс колотил трупы палкой, чтобы выяснить, не появляются ли синяки после смерти, вспоминается — по контрасту — рассказ А. Грина «Возвращенный ад» и его герой Марк, мысли которого неразрывно связаны с душевной деятельностью, у которого между мыслью и сердцем подаерживается постоянная связь...
Холмс, по его словам, соблюдал строгую гигиену разума. Он сознательно отказывался от любви, потому что «любовь — вещь эмоциональная, а все эмоциональное враждебно чистому холодному разуму. А разум я ценю превыше всего». Гигиена разума была сомнительной. По современным понятиям Холмс был невеждой, и невеждой принципиальным. Например, он не знал, что Земля вращается вокруг Солнца, и не находил нужным это знать. Свое невежество он оправдывал утилитарно: знать надо только то, что полезно, что необходимо для работы. Расширение кругозора ради образования общих принципов, ради сознательного, целеустремленного мировоззрения его не привлекало.
В молодости своей буржуазия широко распахнула врата познания, породила людей, страдающих «болезнью мышления», а подряхлев, стала подозрительной, задернула шторы, замкнула засовы и оплачивала лишь те мозги, которые приносили барыши.
Буржуазия предала творческий разум. Одним из симптомов этого и была утилитаристская математизация всего вплоть до исчисления нравственности. И великий наш революционный философ Н. Чернышевский настороженно относился к попыткам позитивистов оскопить математическими значками социальные, исторические и философские науки.
Это, конечно, не означало, что все англичане стали внезапно математиками. Писатель С. Батлер, например, предупреждал, что «жизнь нельзя свести к точной науке». Стюарт Милль написал книгу, озаглавленную «О свободе». Суть этой примечательной книги А. Герцен передает так: «Остановитесь, одумайтесь! Знаете ли, куда вы идете? Посмотрите — душа убывает». Но ничего не помогало. Эксплуататоры использовали царицу наук — математику, чтобы выжимать из рабочих последние силы, «по закону» морить их холодом и голодом, подстригать личность на один фасон и превращать человека в нечто гуртовое, оптовое.
По мнению воспитанного математическим веком Холмса, бытие железно детерминировано. Он утверждал: «Идеальный мыслитель, рассмотрев со всех сторон единичный факт, может путем дедукции воссоздать не только всю цепь событий, которые привели к этому факту, но также и все следующие из него результаты».
Стандартный консерватизм английского быта способствовал убеждению, что в неизменной цепи причин и следствий каждому предопределено свое место. Человек не ответствен ни за что. Личные усилия кого бы то ни было не могут убавить преступность, не могут уменьшить зла.
Деятельность детектива в таком случае теряла смысл, становилась не более чем утехой, развлечением. И Холмс, как видно из некоторых его реплик, в глубине души склонялся к этому убеждению.
В эту мрачную перспективу не вносили просвета и утилитаристы, считавшие, что «поступки, заслуживающие осуждения, часто истекают из таких качеств человека, которые заслуживают похвалу».
Видимо, и Холмс и его творец разделяли некоторые взгляды утилитаристов. Во всяком случае, в представлении справедливого, честного по натуре Холмса границы между злом и благом были сильно размыты. Не потому ли он передавал преступника в руки полиции с крайней неохотой? Автор, видимо, сочувствовал Холмсу: в некоторых рассказах злодей погибал «по воле рока» или сам попадал в расставленные им сети, в иных — оказывался невиновным, в иных — действия убийцы оправдывались тем, что он уничтожал еще более страшного убийцу или справедливо мстил, в иных — преступление вообще оказывалось мнимым. Иногда Холмс употреблял всю силу разума на то, чтобы спасти виновного от полиции, утешаясь изречением вроде: «Возможно, я укрываю преступника, но зато спасаю душу».
Были редкие минуты, когда эта безошибочная машина задумывалась: «Зачем судьба играет нами — бедными, беспомощными червями?» И тогда казалось, что мощный разум — не счастливая особенность характера Холмса, не часть его натуры, а что-то внешнее, мучительное, словно игла, пронзавшая мозг...
Читать дальше
![Сергей Антонов От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант] обложка книги](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-cover.webp)

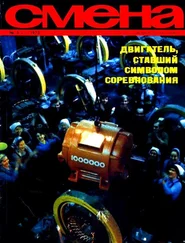
![Сергей Михеенков - Солдатский маршал [Журнальный вариант]](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-thumb.webp)
![Сергей Григорьев - Гибель Британии [журнальный вариант]](/books/123722/sergej-grigorev-gibel-britanii-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)





![Сергей Антонов - Два автомата [Рассказы]](/books/423815/sergej-antonov-dva-avtomata-rasskazy-thumb.webp)
