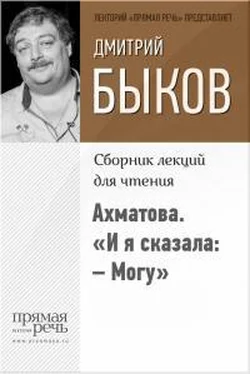«Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня,
Высокою среди высоких башен».
Она из этих камней сложила себе башню. Попробуйте из этого, из этих плевков сделать диадему. И ничего, получается, ведь мы действительно смотрим на королеву Ахматову, которая умела смотреться королевой в вечно рваном халате. Халат был разорван по шву, и в нем она производила впечатление королевы в мантии, королевы в изгнании, которая, как мантию, носит эту рвань. Действительно, надо так уметь. И если человек это умеет, то почему бы ему не пользоваться этой последней защитой? Ведь мы же любим людей бедненькими, мы любим, чтобы мы их могли всегда пожалеть. Как вечно жалующийся Довлатов, который не испытал и десятой доли ахматовских страданий. Мы очень раздражаемся, когда человек, в которого мы кидаем камни, с каждым камнем поднимается на своем пьедестале еще выше. Мы хотим, чтобы нам поплакались, а этого мы от Ахматовой не дождемся никогда.
«Я глохну от зычных проклятий,
Я ватник сносила дотла.
Неужто я всех виноватей
На этой планете была?»
Масштаб бедствия здесь планетарный: она одна на планете отвечает за всех. И это грандиозно работает.
Еще я очень люблю у студентов иногда спросить, почему, собственно, в 1937–1938 годах одна Ахматова сумела написать стихи о терроре, оставить прямой репортаж из этих времен. Смотрите, какой на самом деле ужасный парадокс. О терроре написаны два произведения в то время, когда он происходит. Сидящие не могут писать, понятно. Или могут, как Бруно Ясенский, запоминать стихи в камере. Прозаик Ясенский написал стихи, и они до нас дошли. Но больших произведений о терроре (или, во всяком случае, сюжетных, осмысляющих) – два: «Реквием» Ахматовой и «Софья Петровна» Чуковской.
Для того, чтобы сделать два этих текста, нужны были два полярных мировоззрения – абсолютная герценовская ригористическая моральная правота Чуковской (которую Габбе называла Немезида-Чуковская, и это так и было), и моральная неправота Ахматовой. Почему Ахматова сумела написать «Реквием»? Потому что стихи о терроре пишутся растоптанными людьми, а для нее позиция «растоптанного человека» органична с самого начала. Ведь это же человек с тем лирическим героем, унаследованным напрямую от Некрасова, с тем протагонистом, которого никак язык не повернется назвать человеком идеальным, – наоборот, это стихи человека грешного, виноватого, признающего эту виноватость. Кто из других поэтов мог бы об этом написать? Даже Мандельштам о собственной ссылке сумел написать очень косвенно, очень опосредованно.
«Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости».
«Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли».
Это все-таки позиция победителя: «Чего добились вы? Губ шевелящихся отнять вы не могли». А у Ахматовой – это позиция растоптанного человека:
«Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?»
Для того, чтобы быть абсолютно правой, нужен ригоризм Чуковской. Для того, чтобы написать репортаж о раздавленных, нужна Ахматова.
«Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы палача.
Нет! и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл –
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был».
Не лучше, не хуже, с этим народом в этой кровавой грязи она валялась вместе со всеми. Она придет к Сталину, помните, «овцою на нетвердых, сухих ногах», чтобы спросить:
«Сладко ль ужинал, падишах?
И пришелся ль сынок мой по вкусу
И тебе, и деткам твоим?»
Это ужасное ударное «е», ужасное это блеяние чувствуется здесь. Это измывательские стихи, конечно. Но это и стихи глубочайшего отчаяния, глубочайшего унижения. Говорить от лица униженного поэта – такое может в русской традиции только Ахматова. И этим своим унижением она побеждает.
Я, кстати, думаю иногда, что поэт каким-то образом свою посмертную судьбу незаметно сопровождает. Я свою первую Ахматову получил, когда мне подарила любимая учительница ахматовский том. Но это ведь еще не было судьбой. А настоящая Ахматова ко мне пришла сравнительно недавно, когда я шел здесь рядом, по Арбату, и ко мне подошел мужичонка, которому очень нужно было похмелиться. Это было видно по нему, что похмелиться ему было совершенно необходимо. И вместе с тем с каким-то великолепным достоинством он протянул мне сборник в ручном переплете, рукодельном, и сказал, что он мне за тысячу рублей готов этот сборник продать. Ему действительно нужны были деньги, и понятно было на что. Я увидел, что это был ахматовский сборник из шести книг 1940 года, чудом вышедшая книга, никто не понимал, как она вышла и почему. Так сложились обстоятельства, что только эта тысяча у меня с собой и была. Но поскольку я, собственно, никогда не похмеляюсь, да и не пью уже очень много лет, я с готовностью ему эту тысячу отдал. И вот эту драгоценную Ахматову (хотя, конечно, этот сборник стоит больше) понес домой. В мужичонке действительно было много достоинства, потому что человек, который в таком похмельном состоянии продает прижизненную Ахматову, – в этом есть какой-то момент «за гроши отданного чуда».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу