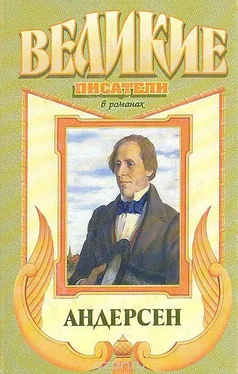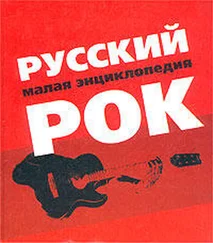Пиршества леса — единственное, что у него оставалось. Жизни чуткие касанья он чувствовал так глубоко, что жить ему становилось всё труднее не день ото дня, а миг от мига... Если бы он был здоров! Но земля тянула к себе и требовала индивидуального разговора, его монологи её уже не устраивали.
Он засыпал от усталости и обиды на жизнь, и его плоть буравили нетерпеливые сны, приходившие в гости без приглашения. Они рассаживались за скрипливым столом его ночных часов и заводили свои шарманки, но ни в одном из них так и не приходила к нему возможность остаться один на один со счастьем.
Странно устроила природа — даже во сне человек не может остаться один на один со своим счастьем, все счастья, которые могли бы проявиться во сне — переряжаются несчастьями, угрюмее которых не сыскать. Но и в дневных тягостных разочарованных часах своих он находил, умудрялся находить подобие радости: так вид засушенного цветка нередко обманывает нас издалека своим цветущим видом, а, между тем, это цветущий вид смерти. Кто сказал, что смерть старуха костлявая с косой? — Нет! Нет! И нет! — она молодая женщина с косой, пышущая здоровьем. И всё-таки — смерть не продолжение жизни — она её начало... И в конце сгорбленных дней своих башмачник Ганс Христиан Андерсен научился понимать это, но больше всего в мире боялся поделиться этим знанием с женой или сыном и даже готов был молить Бога, чтобы его сын — маленький Ганс Христиан Андерсен никогда не сделал по наследству этого отягощающего любое мановение радости открытие... Когда отец сидел на солнышке, понимая, что умрёт, и как бы стремясь унести под землю как можно больше солнечного тепла, он ласкал сына в своих мыслях, даже когда его не было рядом, он хотел, чтобы остатки его жизни перетекли в сына, а он побыстрее избавился и от кожи ребёнка, и от кожи взрослого. Только красота окружающего мира и была его последней отрадой из того, что он видел и замечал вокруг. Жизни людей по какому-то невероятному закону так далеки друг от друга, так несправедливо несхожи, даже у самых близких людей, что опыт предыдущих поколений всегда растрачивается впустую, растранжиривается раз и навсегда, и копилка человечества скудеет с каждым вновь умершим человеком, но так мало людей осознают это, даже среди поэтов; вместо того, чтобы обогащаться каждой прожитой жизнью в человечестве, люди уходят почти без следа, и поэтому каждый умерший лежит не в земле, а на совести человечества; и кто кому нужен на этой земле и почему мы не умираем, когда умирают наши родители? Гнездо эгоизма, свиваемое самим фактом рождения, выпускает хищных птиц, которые сбивают птенцов сострадания, и мы живём под смертельной, безжалостной, свинцовой защитой этих птиц, вездесущих как молнии и всесильных как воздух. Что они нам? Но мы все — гнезда смерти наших родителей — гнезда смерти самых лучших людей. Но, может быть, неведомая сила знает, что бессмертие на земле ещё страшнее смерти и нет ничего гуманнее того, что мы называем гибелью человека... Вот поэтому-то Бог и устроил так, что даже во сне мы не можем напитаться нашими мечтами и всеми теми желаниями, в которых не сознаемся и сами себе, и как знать, как знать, может быть, потусторонняя жизнь, рай — есть не что иное, как повторение счастливых минут этой жизни — если же так, то как недолог наш рай, где с самыми чистыми сокровенными мечтами нашими мы, в лучшем случае, пробудем только несколько часов, а самые счастливые — дни.
Очень хорошо, плодотворно думал он во время болезни, она как бы обнажала его мысли, так сосна обнажает корни в поисках новых соков, когда старые, привычные, испиты, и нечем кормить иголки, и нет возможности гнать соки по стволу к отягощённым кривизной ветвям... Кто мы — корни или стволы? Ветви или соки?
Когда он вдруг нарушал обет молчания, который наложила болезнь в его минуты здорового сознания, он иногда пытался сломать запруду слов и высказать накопившееся в душе, но он прекрасно понимал, как далеки его попытки высказать накопленные неподкупные сконцентрированные мысли радикулитными словами.
— Чему ты учишь ребёнка? — вставала любящая мать и жена на защиту привычных правил, подкреплённых церковными догмами и зрелыми силами её здоровой как у соседей души. — Господь делает всегда всё правильно, и ребёнку не нужны твои непонятные мысли. Лучше бы молчал, берег здоровье. Она искренне любила мужа, она была счастлива сыном сверх всякой меры, но боялась любого непривычного движения души и слова. Всякий религиозный человек уважает догмы и старые истины, он справедливо борется за своё право жить за крепостной стеной этих догм, это происходит по инерции предыдущих поколений, поэтому всякое новое движение мысли в утробе века зачастую приканчивается самыми замечательными людьми, готовыми отдать жизни за свои догмы. Как правило, люди — это дети догм и пасынки истин, потому что всякая истина, становясь догмой, переходит в свою противоположность; свежесть, перерождаемость становится затхлостью, а мир превращается в антимир...
Читать дальше