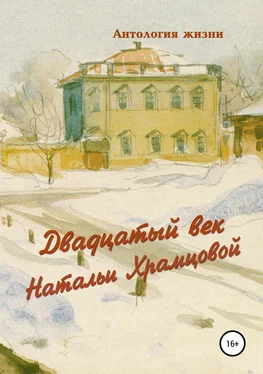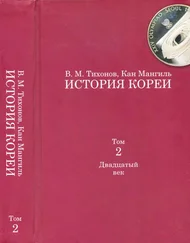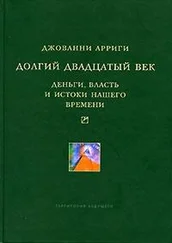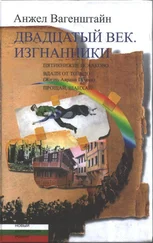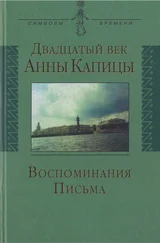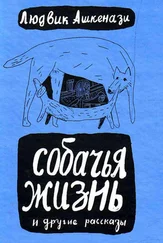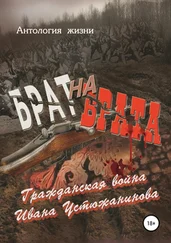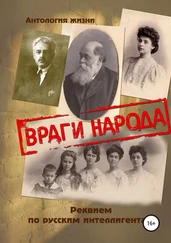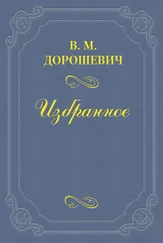Парадоксально, но нам всегда больше нравятся те, кто нас гнобит и зажимает. «Лобное место – это очень «наше» место, нам обязательно надо, чтобы кому-нибудь головы рубили.
Заполняя в 1926 году анкету послужного списка, папа на вопрос «Принимал ли участие в Октябрьском перевороте и где» напишет: «Активного участия против белогвардейских юнкеров в Москве не принимал». На вопрос «Подвергался ли наказаниям за политическую работу?» ответит: «Отделывался пустяками».
После Москвы отец какое-то время работал в Подмосковье, в очень известной детской колонии, так называемой «школе Шацкого». (Может быть, даже до женитьбы на Марусе).
Шацкий Станислав Теофилович(1878-1934), русский и советский педагог. Происходил из дворянской семьи. Учился в Московском университете, Петровской (Тимирязевской сельскохозяйственной академии) и в Московской консерватории по классу вокала.
Педагогическую деятельность Шацкий начал с попытки создания частной школы, в чём ему было отказано, поэтому в 1905 году среди детей и подростков рабочих окраин Москвы он вместе с архитектором А.У. Зеленко и другими педагогами создаёт первые в России детские клубы. В 1906 году организовал общество «Сетлемент» («Поселение» – с анг.), которое в 1908 году было закрыто полицией за пропаганду социализма среди детей, а сам Шацкий арестован. С 1909 года руководит обществом «Детский труд и отдых». В 1911 году общество открыло детскую летнюю трудовую колонию «Бодрая жизнь» (на территории современного города Обнинска). Основой жизни в колонии был физический труд: приготовление пищи, самообслуживание, благоустройство, работа в огороде, в саду, в поле, на скотном дворе. Свободное время отводилось играм, чтению, беседам, постановкам спектаклей-импровизаций, занятиям музыкой, пением (…) Первые внешкольные учреждения во многом выполняли компенсирующую функцию – занятия в этих учреждениях восполняли отсутствие у детей школьного образования (…)
По материалам википедии.
– Папа ещё с подростковых лет был дружен с литератором и поэтом Георгием Масловым (у нас в семье он назывался Юра Маслов). Папа рассказывал, что Маслов бежал с белыми и умер где-то в Сибири от сыпняка.
Интересно: бежал с белыми, здесь его никто не знал, не упоминал. А я в Ленинграде любила походить по букинистическим, и вот как-то заглянула в такой магазинчик на Среднем проспекте на Васильевском. И лежит: Георгий Маслов, «Аврора Шернваль», его поэма. Я спрашиваю: «Сколько стоит?» – То ли 2.50, то ли 3.50. То есть совсем никакие деньги. Купила.
Причём, когда папа читал стихи Юры Маслова, мама говорила: «Ну что ты эту гадость читаешь?!» Папины стихи про страсть были жалким лепетом по сравнению со стихами Маслова.
Георгий Маслов
Мы дышим предчувствием снега
И первых морозов.
Осенней листвы
Золотая колышется пена.
А небо пустынно и Запад
Томительно розов,
Как нежные губы, что тронуты
Краской Дорэна.
И тихая осень полей
в освещенье заката,
И душные волосы пахнут
о скошенном сене.
С зелёной земли,
где друг друга любили когда-то
Мы снова вернулись сюда,
неразлучные тени…
Рукопись(Из архива С.П. Храмцова).
Маслов Георгий Владимирович(1895-1920), поэт, литературовед-пушкинист, родственник З.Н. Гиппиус. В 1913 с серебряной медалью окончил Симбирскую мужскую классическую гимназию, в которую перевёлся из Самарской в 1908. В марте 1917, не окончив курса в С. Петербургском университете, вместе с женой, поэтессой Е.М. Тагер (1895-1964) приехал в Симбирск и принял активное участие в организации выборов в Учредительное собрание, в 1918 – примкнул к белочешскому мятежу. Служил в Добровольческой армии Колчака. Умер во время эпидемии тифа. Главное произведение Маслова – поэма «Аврора» – посвящённая А. Шернваль (жене сына Н.М. Карамзина), опубликована в журнале «Юность», 1994, № 5.
С.Б. Петров.
Ульяновская-Симбирская энциклопедия, том I, 2000 г.
29 октября 1996 года. Наталья Сергеевна – А.С. Бутурлину в Подмосковье.
(…) За осень прочитала несколько хороших книг, – главным образом, мемуаров. Недавно шли косяком великолепные передачи и фильмы («Тень», «В четверг и больше никогда» с О. Далем, Смоктуновским, молодыми Ниловой и А. Вертинской, с дивным Гердтом). И передачи, посвящённые З.Е. Гердту – такая радость! И грусть… Прекрасное, любимое, высокое так хрупко. То же переживание-восхищение, тревога и печаль – когда видишь Д.С. Лихачёва или Булата Окуджаву.
Читать дальше