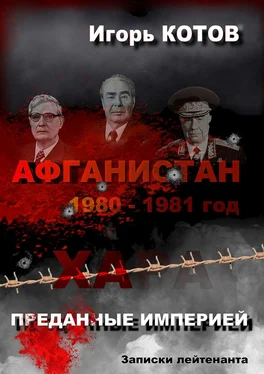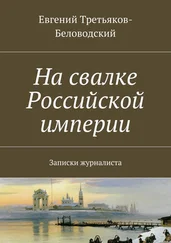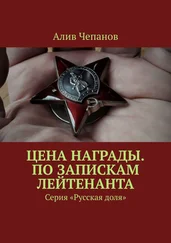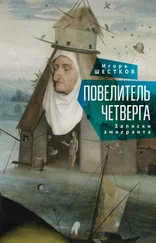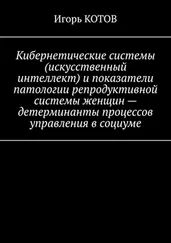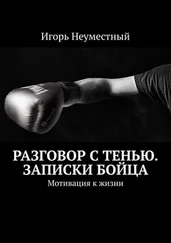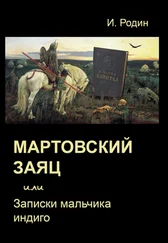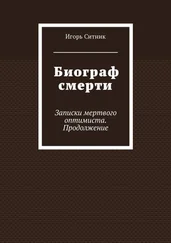В Советской армии существовало два типа полков, обыкновенный и «паркетный». Визуально между собой практически не отличаясь, они, тем не менее, были столь не похожи, что, попадая из одного типа подразделения в другой, следовало проходить как минимум месячную адаптацию.
События медленное текущей армейской жизни в вышеназванной части нежданно прервалось тревожным криком дежурного офицера, от которого перехватило дыхание и заставило пульс стучать чаще обычного, переводя разум в тревожное состояние, известное психологам как ажитация, хотя здравомыслящая часть населения назвала бы его волнением. Именно им был полон мой полк этим самым состоянием по самые помидоры.
Бегущие по части солдаты вперемешку с младшими офицерами, с мелькавшими между ними майорами и подполковниками, что само по себе удивительно для Советской армии времен СССР, несли в себе некий импульс неизвестного, страшного, от которого срывается голос, рождая в мозгу картинки ужасней предыдущей. От рваной работы мозга, выбрасывающей в кровь огромное количество адреналина, закупоривающего вены, слабели мышцы и тупая боль, достигшая гортани, вызывала спазм.
Впервые это слово произнес посыльный, рядовой Мамедов (был тяжело ранен в Афганистане), по долгу службы оказавшийся в расположении офицерского общежития, известное как «ночлежка» по приказу командира второй роты старшего лейтенанта Какимбаева. Разбудив офицеров своей роты криком, когда стрелки часов едва не достигли цифры двенадцати.
– Война, – и мгновенно утихли разговоры практический во всех соседних комнатах, отгороженных друг от друга тонкими переборками стен из фанеры. Отчего-то сразу стало неуютно. Те, кто не расслышал его, переспросили у мгновенно притихших товарищей, заинтересовавшись их неожиданно побелевшими лицами.
– Война?
Воспитанные на фильмах «Офицеры» и «В бой идут одни старики», многие, услышав его, словно оказались в оковах оцепенения, другие наоборот – почувствовали, как их тела наполняются некой силой, проникающей в кровь и расползавшейся по нервам метастазой, заразившей, в последствии, целую страну не вылечившуюся до сих пор. Метастазой кровавых побоищ, ружейного огня и расстрелов. Героизма и трусости, настолько сильно переплетавшейся между собой, что не понять, где что.
Желание прочувствовать с чем жили их отцы и деды читались на каждом лице неожиданно побледневшими разводами у скул. Взглядами, отдаленно напоминавшими глаза солдат с картин баталистов. Пустыми и холодными. Движениями, немного сумбурными и не всегда координированными.
– Война!
И, поверьте, нет более сильного, по своему накалу слова, способного изменить образ мыслей и желаний вчерашних школьников, превратив их в солдат не по внешней форме, а по внутреннему состоянию, полному огня, испепелившему мелкие неурядицы в службе и личной жизни. Застав смотреть на мир иными глазами. Глазами Ангелов.
– С кем? – прапорщик Акимов, недавно вернувшийся с целины, и еще не отошедший от партизанского образа мыслей, тут же сам себе и ответил, – со вторым батальоном. В частности с прапорщиком Отказовым, который спер у меня в командировке две бутылки водки. И этого я ему не прощу.
Невысокого роста, он обладал незаурядной прыгучестью, будучи капитаном сборной части по волейболу, а также независимым мышлением и острым языком, способным просверлить любую дырку в преграде между людьми. Чтобы иметь о нем более точное представление, было достаточно находиться с ним рядом часа два, слушая его незамысловатый треп. По социальному статусу в первом батальоне во главе с недавно прибывшим в часть капитаном Переваловым (дикорастущим, как выразился командир минометной батареи капитан Князев), он занимал один из важнейших элементов сего механизма, без которого не могла функционировать ни одно боевое подразделение – был санитаром, медбратом, медиком. В общем, человеком, который будет вытаскивать с поля боя раненых и убитых, рискуя своей жизнью ради жизни незнакомых, в общем-то, ему людей, спаянных с ними лишь верой в безупречность поступков своего командования, немного дружбой, замешанной на взаимных интересах и периодических пьянках, спаивающих (от слова паять) коллектив.
– Игорь, ты каратист? – на мой кивок он практически мгновенно ответил – собирай своих, и пойдем бить врагов.
Своих – это значит, лейтенанта Игоря Свинухова – замполита второй роты. И всё. Остальных он вполне заслуженно, а кое-кого и не заслуженно называл ёмким русским словом, кратко характеризующим сущность человека, в медицине потребляемым для обозначения резинового изделия, предотвращающее беременность. Как попал в число «своих» замполит Свинухов, потомственный политработник, с которыми у прапорщика шла нудная и, как правило, с переменным успехом война, иногда холодная, иногда горячая, мне пока было не ясно.
Читать дальше