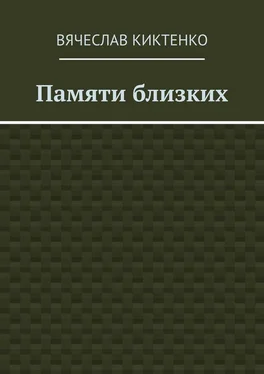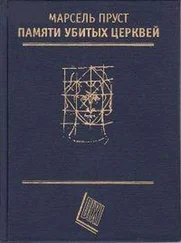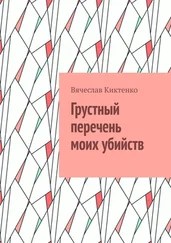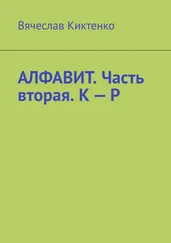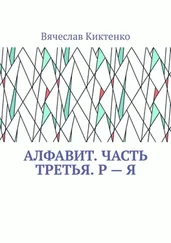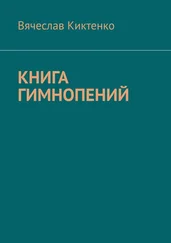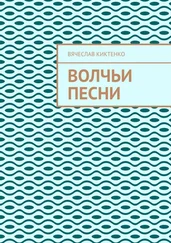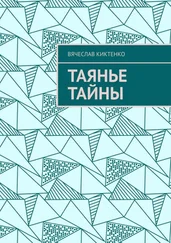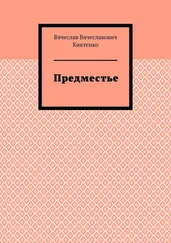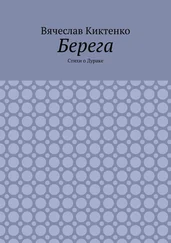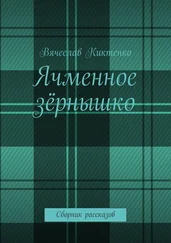А жёны начинали торопить,
И на мосту просили дети пить,
И как они, страдаю я от жажды,
Теперь в воспоминаниях моих
Ища средь сосен тёмных и густых
Колодец, мной оставленный однажды…
3
Он возглавлял пахучий солнцепёк,
Густую тень отбрасывая вбок,
Он откликался мокрым срубом глухо;
Бадья в него слетала без труда,
Сбивала мох, грибы, наросты льда,
Под свист и лязг неслась, неслась туда,
Где небо тёмным делала вода,
И в ней плясала бледная звезда,
И всплеск почти не долетал до слуха…
***
Вернуться бы в ясное детство,
Поверить в одну справедливость,
Одну ненавидеть неправду,
Одной поклоняться любви,
Зачем головами качали,
Зачем притворяться учили?
К чему рассудительный опыт
Без веры в других и в себя?..
Средняя Азия – вот что изначально свело и связало нас с Арсением Александровичем Тарковским.
Он как-то спросил меня:
– «Слава, а сколько Вам лет?»
Я удручённо потёр виски и пробормотал:
– «Уже целых двадцать три…»
Тарковский вместе со своим другом, директором фирмы «Мелодия» (вот чем ещё, отметил я, объяснялась его потрясающая фонотека: впервые для меня у писателя книжные стеллажи занимали не книги, а пластинки – классика в основном, да ещё два проигрывателя: один суперсовременный импортный, с алмазной иглой, другой – дореволюционный граммофон для старых пластинок) расхохотались.
Тарковский сказал мне «в утешение» с лёгким юморком:
– «Эх, мне бы поделить свой возраст на ваш. На три…»
А его друг добавил уже более серьезно:
– «Арсюша, да хоть бы две трети такого возраста нам!..»
Хорошо им было смеяться!
Я жил иными измерениями, и назойливо стучало в мозгу маяковское:
«Мир огромив мощью голоса,
Иду красивый, двадцатидвухлетний…»
Этот уже в двадцать два был знаменит и написал своё лучшее, а я и к двадцати трём ничего, кроме нескольких подборок в журнале «Простор», да кучи черновиков в общих клеёнчатых тетрадях не имел.
«…если правду сказать, мы все звездолюбцы…».
Не всуе сказано. Мой старший знакомый по Алма-Ате, близкий друг Тарковского рассказывал, что Арсений Александрович возил по всей Средней Азии переносной телескоп. Смотрел ночами на звёзды, изучал Звёздную карту, сверял её со звёздным каталогом. Да что там изучал! Он был влюблён в звёзды. Разве можно без любви написать такое:
«Могучая архитектура ночи!
Рабочий ангел купол повернул,
Вращающийся на древесных кронах,
И обозначились между стволами
Проёмы чёрные, как в старой церкви,
Забытой богом и людьми.
Но там
Взошли мои алмазные Плеяды.
Семь струн привязывает к ним Сапфо
И говорит:
«Взошли мои Плеяды,
А я одна в постели, я одна.
Одна в постели!»
Ниже и левей
В горячем персиковом блеске встали,
Как жертва у престола, золотые
Рога Тельца
и глаз его, горящий
Среди Гиад,
как Ветхого Завета
Ещё одна скрижаль.
Проходит время,
Но – что мне время?
Я терпелив,
я подождать могу,
Пока взойдёт за жертвенным Тельцом
Немыслимое чудо Ориона,
Как бабочка безумная, с купелью
В своих скрипучих проволочных лапках,
Где были крещены Земля и Солнце.
Я подожду,
пока в лучах стеклянных
Сам Сириус —
с египетской, загробной,
собачьей головой —
Взойдёт…»
(Из стихотворения «Телец, Орион, Большой пёс»)
Такое без любви не пишется, не поётся. Более того – этакое может написать лишь человек наделённый не только огромным даром (это даже лишне говорить), но соизмеряющий себя – обычного двуногого – со всей Вселенной. Не меньше! Одной земли мало. Земля не только кормит, но ведь и погребает. Недаром у Тарковского возникают такие жуткие строки, вообще-то не присущие поэту Света:
«…мать подошла, и в окно заглянула,
И потянуло землёй из окна…»
Связали нас общие знакомые, писатели старшего возраста из Средней Азии. Я влюбился в поэзию Тарковского по книге «Вестник», вышедшей в 1969 году в издательстве «Советский писатель» тиражом ныне немыслимым для поэтической книги – 20000 экз. Но и этого тогда, в 60-годах, было очень мало. Это была пора стихотворного буйноцвета (Асадов и Евтушенко, к примеру, издавались полумиллионными тиражами), к стихам тянулись все: мальчики, девушки, юноши, пенсионеры… там, иногда, прорывались социальные протесты – вот к ним чаще всего, а не к собственно поэзии, и тянулась публика, уставшая вычитывать в газетах нечто этакое, «между строк». А вот поэтам, собиравшим стадионы, позволялось (в меру, в меру, конечно) говорить более-менее открыто о наболевшем в обществе. Но не Тарковскому. Да ему, «звездолюбцу», это и не требовалось. Он, хотя и земной, был настоящим олимпийцем.
Читать дальше