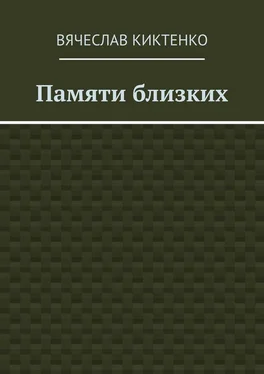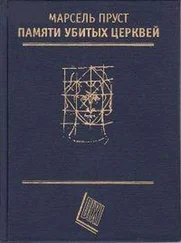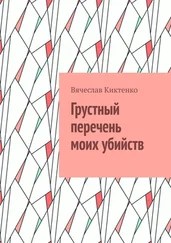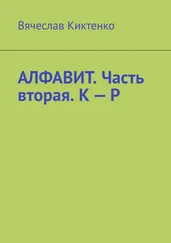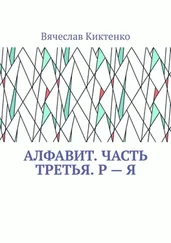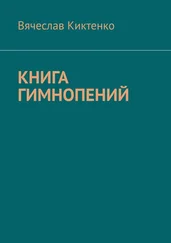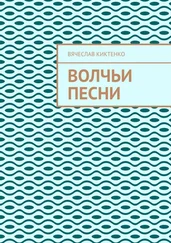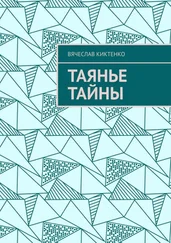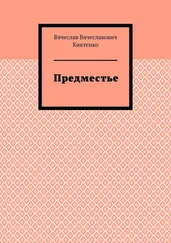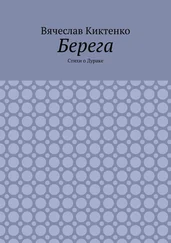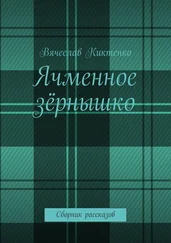Я получил за небольшую подборку целых 70 крепких советских рублей! Моя мать, всю жизнь работавшая бухгалтером и получавшая 60 рублей в месяц, недосыпавшая ночей в квартальные и особенно в годовые отчёты (что такое «бухгалтерская копейка», из-за которой надо было пересчитывать всю отчётность, чтобы точно свести баланс – нынешние бухгалтеры вряд ли догадываются) была просто изумлена. А ещё более я сам.
До того я искренне считал, что за публикацию надо платить самому. А как же! Ты несёшь в бессмертие свои чувства, свои мысли, своё имя, в конце концов!..
В конце концов на эти деньги я провёл прекрасный месяц на Иссык-Куле, где было всё: и солнце, и воздух, и вода, и рыбалка, и первый настоящий поцелуй – в духоте и возне фанерного домика на берегу, страсть, задыхание, испарина молодых тел…
Это предыстория. История – сам Антонов.
Молодым, в 50-е годы он без проблем поступил в Литинститут в семинар Ярослава Смелякова. О Смелякове отзывался хорошо. Особенно поразил его рассказ, как на самом первом семинаре, уже порядочно пьяный Смеляков начал знакомство со своими студентами. Время от времени наклонялся, вышаривал «что-то» в портфеле и, спустя минуту, поднимался – заметно повеселевший. Красивая молоденькая девочка в свою очередь звонко читала свои стихи (шла так называемая «шапка по кругу»). Смеляков, уже вновь осоловевший, вдруг прервал её чтение и спросил:
– «Девочка, сколько вам лет?»
– «Восемнадцать!» – гордо выкрикнула комсомолка.
Смеляков помрачнел, загрустил, уронил голову на руки… а потом произнёс трагическое:
– «Боже мой, Боже мой… сколько же вас, девочка, будут е… ть!..»
Через месяц Смелякова уволили из Литинститута. Антонов уволился одновременно с ним. И вовсе не из солидарности, а потому, что стал задыхаться в Москве, в бензине улиц, в толпах людей, в ристалищах самоназванных гениев.
И судьба ему благоволила. Он уехал в Алма-Ату, изумительно чистую и немноголюдную тогда, цветистую, радостную, красно-зелёную (мне казалось так) насквозь пропахшую яблонью, особенно по осени, когда созревают баснословные, чуть не в килограмм весом плоды апорта, а частники жгут по садам осеннюю листву…
И его, молодого, талантливого, презревшего Москву, добровольно ушедшего из семинара одного из знаменитейших поэтов России (до этого Антонов, к счастью, успел окончить журфак), сразу взяли заведующим отдела поэзии в журнал «Простор» – как раз в то время образовалась вакансия. На этом месте он проработал добрых полвека, почти до самой кончины…
И был все эти годы не просто «законодателем моды» в Республике (для Антонова это определенние не то что пошловато, – мелковато), но авторитетом в последней инстанции. При всей своей «кержацкости», он был очень тонок, образован, умён.
И по-умному долговиден, чтобы не писать, например, «датские» стихи.
А стишки к многочисленным советским датам писали тогда почти все. Немыслимо было представить газету без стихотворной передовицы к Первомаю и проч. «Датами» не то чтобы кормились, скорей напивались на гонорары от них в кругу таких же «датописцев». Завывали стихи и взахлёб хвалили друг друга. До сих пор тошнит от выражения «Старик, ты гений!», которое с ностальгией вспоминают «шестидесятники».
Другое дело, что он не терпел никакого «новаторства» в классическом стихе, авангардизма. И зря я ему внушал, что хиленький модернизм и великий русский авангард – вещи абсолютно разные. Противоположные даже.
Он упорно не печатал таких замечательных поэтов, как Александр Соловьёв, Булат Лукбанов, Виктор Мармонтов и ещё, и ещё. Я ему так и говорил за рюмкой-другой: «Валерий Александрович, да у Вас, как у заправского хирурга, и так уже целое кладбище, на кой чёрт его множить и множить ещё?.. Есть разные реки, есть разные птицы, пусть текут и поют как умеют…»
Но он упрямо, с кержацкой неколебимостью твердил: «Рек много, а Волга – одна! Поэтов много, а Твардовский – один!» Мне иногда кажется, что это, чуть ли не слепое следование за Твардовским, во многом сузило его творчество. Гений, как известно, не оставляет школ.
Господи, сколько сумасшедших споров вызвало обсуждение выдающегося, на мой взгляд, лирика Александра Соловьёва! Особенно взбесило многих невинное пейзажное четверостишие:
Поляна
«В осиянной росянице,
В потаённой глубине
Били ландышей копытца
По серебряной луне»
Некоторые из обсужавших (да большинство!) восхищались. Соловьёв был счастлив. Наконец-то из городского гения, читавшего стихи в кафешках, поскольку другой аудитории не было, его признал сам Союз писателей!
Читать дальше