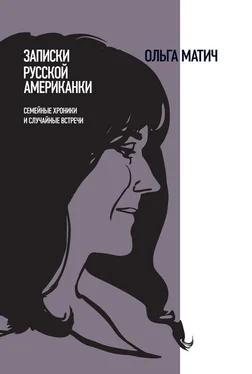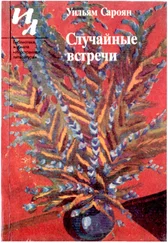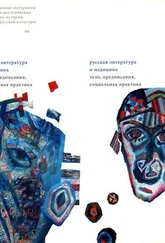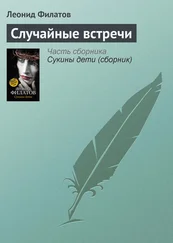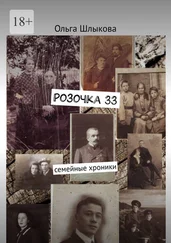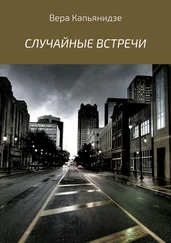Кабаков – самый значительный (во всяком случае, самый успешный) из российских концептуалистов.
Это было после пребывания Кабаковых в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, куда его пригласил Свен Спикер и где они соорудили инсталляцию под названием «Пустая бутылка: мать и дитя». Литературо– и искусствовед, Свен одно время был аспирантом в Университете Южной Калифорнии, я с ним в друзьях.
Кабаковых я в последний раз видела в 2011 году в Стэнфорде, когда там вел семинары Владимир Сорокин. Высказывания Кабакова об искусстве оказались, к моему удивлению, малоинтересными.
На этой конференции собрались писатели и критики из Восточной и Юго-Восточной Европы, например знаменитый критик Юлия Кристева. Из русских выступали Ольга Седакова и Михаил Эпштейн, а также известная хорватскaя писательница Дубравка Угрешич, с которой я познакомилась еще в Лос-Анджелесе; российскому читателю может быть интересно, что у нее был роман с Андреем Битовым.
Поначалу этот район был итальянским; в общем-то он оставался таковым еще в моем детстве, в конце 1940-х годов, когда мы жили в Сан-Франциско и иногда гуляли по нему: движение битников зарождалось именно в то время (в North Beach возникло само это слово). В конце 1930-х годов там появился ночной клуб «Финнокио», в котором впервые стали выступать мужчины, изображавшие женщин. В начале 1960-х я его посетила. К тому времени «Финнокио» прославился своим трансвеститским шоу, существовавшим уже много лет. Это было еще до того, как я стала заниматься Гиппиус и гендерной тематикой.
В 1950-е годы Гинзберг и Керуак жили в Беркли. В 1960-е улица Телеграф, упирающаяся в кампус университета, стала улицей хиппи; на нее выливались знаменитые университетские демонстрации в защиту свободы слова и против войны во Вьетнаме.
Берклийский профессор-славист Энн Несбет сделала на эту тему доклад, в котором среди прочего показала, что тени в «Иване Грозном» отсылают к «Белоснежке», главным образом к той сцене, в которой появление гномов предваряют их гигантские тени.
Среди других участников были Борис Гаспаров, Катерина Кларк, Джон Малмстад, Ирина Паперно, Омре Ронен и Майкл Холквист. Конференция была приурочена к открытию большой ретроспективной выставки Малевича в новом Музее Арманда Хаммера; на следующий день состоялся концерт русской авангардной музыки 1910–1920-х годов в исполнении «Continuum Ensemble of New York», а через день – авангардный костюмированный бал.
Гройс также указывал на то, что и в авангарде, и в соцреализме есть утопическая идея конца истории. В кратком курсе по русской философии, который он читал в следующем семестре в USC, он говорил, что одним из источников идеи конца истории у постмодернистов были идеи Владимира Соловьева, что соловьевская концепция конца истории, изложенная в «Смысле любви», проникла во Францию в 1930-е годы через Александра Кожева (Кожевникова), написавшего о нем докторскую диссертацию в Германии в начале 1920-х. Еще Гройс говорил, что Кожев ввел свое толкование Гегеля во французский философский обиход: его лекции о Гегеле посещали будущие знаменитые теоретики Жорж Батай, Морис Мерло-Понти и Жак Лакан. В 2009 году Гройс опубликовал на эту тему статью (Гройс Б. Три конца истории: Гегель, Соловьев, Кожев // На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия А. В. Лаврова. М.: Новое литературное обозрение). Мне все это было очень интересно: я как раз начинала задумывать свою «Эротическую утопию», в которой Соловьев занимает важное место (прежде всего благодаря «Смыслу любви»). Разговоры с Борей, с которым мы стали друзьями, повлияли на мое понимание Соловьева.
Гройс Б. Gesamtkunstwerk Сталин. М.: Ad Marginem, 2013. С. 135. Избранные доклады с конференции были опубликованы в книге: Laboratory of Dreams: The Russian Avant-Garde and Cultural Experiment / Ed. by John E. Bowlt and Olga Matich. Stanford: Stanford University Press, 1996.
http://russianwriters.berkeley.edu/248-2/и www.youtube.com/watch?v=F4nzwc4Tsqs.
Вспоминается песенка Псоя Короленко «Айова». Он там, разумеется, выступал.
Толстая Т. Соня // «На золотом крыльце сидели…». М., 1987. С. 136.
Толстая Т. Милая Шура // Толстая Т. Указ. соч. С. 38.
«В конечном итоге то, что я ищу в своей фотографии („интенция“, в соответствии с которой я ее разглядываю), – пишет Барт, – есть Смерть, она является ее эйдосом. Так что единственная вещь, которую я выношу, люблю и воспринимаю как привычную, когда меня фотографируют, это, как ни странно, шум аппарата. На мой взгляд, орган Фотографа – не глаз, который ужасает меня, а палец, связанный со щелчком объектива, с металлическим скольжением пластинок (когда такие вещи еще были в фотоаппарате) … как если бы своим коротким пощелкиванием они разбивали смертоносное пространство Позы» (Барт Р. Camera Lucida. Комментарий к фотографии / Пер. М. Рыклина. М.: Ad Marginem, 2011. С. 28–29).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу