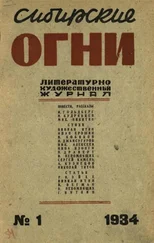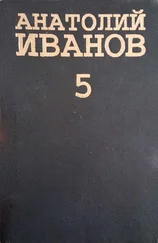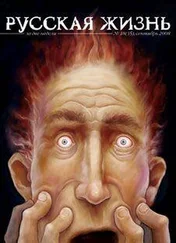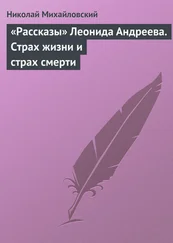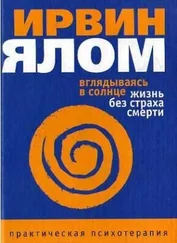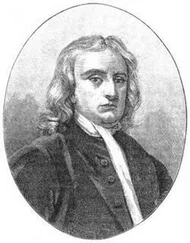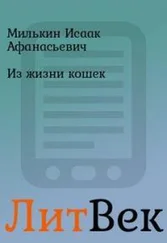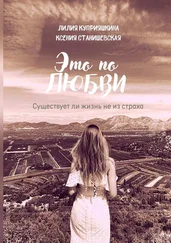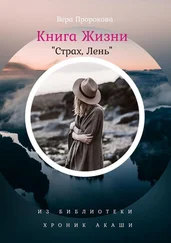– Дядя Ваня, а можно прокатиться?
На что дядя Ваня ответил:
– Нет, эта машина катает только евреев.
Его ответ меня очень вдохновил, и я торжествующе выпалил:
– Так ведь я и есть еврей!
Дядя Ваня не ожидал такой реакции на своё утверждение; он от души рассмеялся и уже не мог отказать мне в моей просьбе – он посадил меня в кабину и прокатил целую трамвайную остановку. Мечта ребёнка осуществилась, счастью не было предела!
Следует отметить, что район, в котором мы тогда жили, совсем не считался плохим. В Ленинграде в те годы было много рабочих районов, в основном на окраинах, которые считались куда более криминогенными. Нельзя также забывать, что 70 % моих сверстников воспитывалось без отцов. Это ведь за нашим поколением закрепилось понятие безотцовщины! К слову сказать, на 4-м этаже в кв. № 28 одной с нами лестницы, жил тогда Олег Алексеев со своей матерью, который впоследствии стал ректором ЛЭТИ (с 1984 по 1998 г. г.).
Из бытовых проблем тех лет врезались в память четыре:
1) Стояние с мамой в очередях за мукой и яйцами (каждый из этих продуктов продавали или, как тогда говорили, «выбрасывали» в разные дни) целый день дважды в год – накануне праздников 1 мая и 7 ноября. Моё присутствие в очереди было необходимо поскольку всегда существовало ограничение на продажу товара в одни руки. Совсем не помню, чтобы мама брала в очередь сестру или брата; думаю, что их было труднее заставить стоять целый день, но скорее всего наш материальный недостаток всё равно не позволял покупать больше.
2) В конце каждого лета мы заготавливали дрова на зиму (отопление тогда было печное): в субботу (в то время это был ещё рабочий день) отец привозил целый грузовик дров, которые сбрасывались во дворе. Следующий день, воскресенье, весь мужской состав нашей семьи, отец, Аркадий и я, пилил их, колол и относил в наш сарай, который был построен отцом в бомбоубежище нашего дома.
3) Стирка белья в домовой прачечной, которая была одна на 50 квартир нашего дома, это примерно на 400 жильцов. Мне кажется, что тогда не было платных прачечных вообще, куда можно было за плату отдать в стирку бельё. Но, может быть, я не прав – они существовали, а пользовались ими люди только состоятельные. Нашей семье это точно было не «по карману». Наша прачечная располагалась в бомбоубежище нашего дома. Туда надо было натаскать дров из нашего сарая (это всегда было моей обязанностью), растопить печь и в течение нескольких часов нагревать воду в громадных баках. Затем начиналась мамина работа, т. е. сама стирка, которая занимала всю вторую половину дня, после чего опять наступала моя обязанность помогать маме отнести постиранное бельё на чердак (6-й этаж по нашей лестнице) и там его развесить. Особенно весело проделывать эти операции было зимой, когда температура на улице -20 оС, а в прачечной и на чердаке ненамного выше. А через 2–3 дня я опять вступаю в свои обязанности и помогаю маме снять бельё с верёвок и принести его домой. На этом мои «бельевые» обязанности заканчивались, теперь опять наступали только мамины – глажка утюгом, который нагревался в кухне на керогазе.
4) Банные дни. Тут пора объяснить, что в нашей квартире (и, конечно, во всём доме) не было ни ванной комнаты, ни горячей воды, а холодная вода была в двух источниках – в умывальнике на кухне и в сливном бачке в туалете. Такое положение в то время в Ленинграде было скорее нормой, чем нет. Поэтому, чтобы помыться, ходили в общественные бани. Ближайшие к нам, Петрозаводские бани, находились прямо напротив моей школы № 51. Каждую субботу (да-да, я не ошибся, только раз в неделю! – сегодня это звучит совершенно абсурдно) после рабочего дня, отец брал меня с собой, и мы торопились туда чтобы занять очередь. Напомню читателю, что практически всё население СССР, особенно его мужская половина, работало строго от 8-ми утра до 5 вечера и, конечно, каждый старался «почистить свои пёрышки» перед единственным тогда выходным днём – воскресенье. Теперь читателю легко понять, почему образовывались банные очереди. Стоять там надо было не меньше 2–3-х часов, а перед этим надо было ещё отстоять другую очередь – в парикмахерскую – кому постричься, а кому ещё и побриться. Таким образом, банный поход занимал весь субботний вечер, мы возвращались домой никак не раньше 10–11 часов вечера. Этой проблемы не было у женской половины нашей семьи, т. к. мама с Нэлей могли посещать баню в любое время днём. У моего брата этой проблемы тоже не было, т. к. в 1945 году ему исполнилось 9 лет и его отпускали в баню днём одного.
Читать дальше