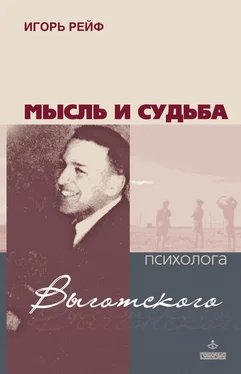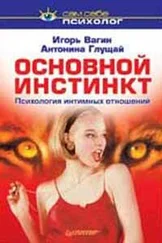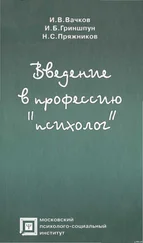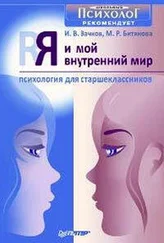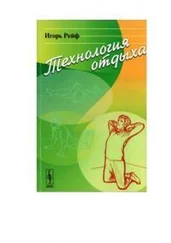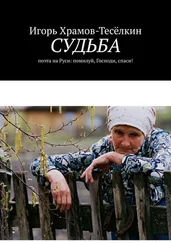1 ...6 7 8 10 11 12 ...34 Что же мешает ему целиком посвятить себя только что сбывшейся своей мечте? Уйти с головой в эксперименты, в научную полемику, в лекционные курсы, которых у него с осени 1924 года уже четыре или пять по разным вузам и университетам Москвы («гомельский синдром»)? А ведь Выготского ждут еще две большие незавершенные рукописи, которые тоже требуют и времени и внимания и долгих часов терпеливого перекраивания сложившегося вчерне текста. Но, видимо, общественный темперамент, а может, и обостренная совестливость российского интеллигента, не позволяют укрыться за частоколом академической науки, когда Выготский понимает, что в его идеях, в его знаниях и опыте нуждаются миллионы брошенных, искалеченных годами войны, годами голода и разрухи сирот (что там слеза одного замученного ребенка – реки детских слез по всей необъятной России), и сознает, что может оказаться здесь полезнее многих и многих.
Однако что реально мог сделать для них психолог, а тем более для тех маленьких бессчастных изгоев, что были вверены его профессиональному попечению? Чем расцветить этот скудный, лишенный красок и звуков мир? Обучить азбуке глухонемых? Пальцевому чтению по системе Брайля? Каким-то элементарным бытовым и трудовым навыкам? Впрочем, вопросы эти уже и тогда были риторическими, потому что к моменту переезда Выготского в Москву в стране сложилась замечательная когорта дефектологов-практиков, а имена некоторых из них – как, например, И. Соколянского, специалиста по работе с слепоглухими детьми, и его воспитанницы поэтессы Ольги Скороходовой – стали со временем известны даже за ее пределами. И что же мог сообщить собравшимся на том съезде «зубрам» этот никому не известный докладчик с его скромной манерой держаться и освещающей по временам лицо неожиданной покоряющей улыбкой?
«Начало доклада Л. С. Выготского, – вспоминал впоследствии один из делегатов, – было встречено с большим недоумением, очень многие оглядывались, иногда возмущенно пожимали плечами. <���…> Однако глубокая убежденность Льва Семеновича, обаятельный голос, подлинная образованность и знание дела сказывались в каждой строчке, и все постепенно начинали понимать, что перед ними выступает не безответственная горячая голова, а большой ум, дающий право стать вождем дефектологии. <���…> С конференции 1924 г. ее участники уезжали не так, как уезжали с предыдущих конференций. Они уехали с нее совершенно другими, обновленными» ( Выгодская, Лифанова , 1996, с. 79–80).
Так чем же все-таки покорил тогда Выготский свою искушенную аудиторию? А все дело было в том неожиданном взгляде на физический либо умственный дефект, который он предложил слушателям, а в дальнейшем развил и обосновал во множестве последовавших затем публикаций. Сегодня все эти разрозненные выступления составляют 5-й том собрания его сочинений, но тогда, в конце 20-х годов, никаких томов, конечно, не было, а были сообщения, доклады и разного объема статьи, печатавшиеся в специальных журналах, научных сборниках, а то и в популярных брошюрках вроде «Долой неграмотность», под говорящими сами за себя названиями: «Развитие трудного ребенка», «Воспитание слепоглухонемых детей», «Умственно отсталые дети» и т. д. И сквозь каждую из них красной нитью проходит мысль о том, что дефект не приговор, что главное – не натуральные, а социальные его следствия и даже обойденный судьбой ребенок – это прежде всего ребенок, стремящийся всеми доступными ему путями реализовать богатство заложенных в нем возможностей.
Да, замечательных дефектологов-практиков на тот момент в нашей стране было немало, однако теория, которой они руководствовались в своей работе… С теорией дело обстояло гораздо хуже. Вот, к примеру, цитируемая Выготским методика «уроков тишины» для умственно отсталых детей из книги А. Н. Граборова «Вспомогательная школа» (1925): «1-е упражнение… По счету раз, два, три устанавливается полная тишина. Конец упражнения по сигналу – стук учителя по столу. Повторить 3–4 раза, выдерживая 10, затем 15, 20, 30 с. С невыдержавшим (повернулся, заговорил и т. д.) – сейчас же индивидуальные занятия: выйди к доске, возьми мел и положи на стол. Затем сядь на место. Тихо». Или другое упражнение из так называемой «психической ортопедии» под названием «сохранить возможно дольше принятое положение»: «Каждого ребенка снабжать тонкой книгой в твердом переплете или соответствующей величины досточкой, которую нужно держать горизонтально. На эту плоскость устанавливается конический мелок или, что лучше, выточенная из твердого дерева палочка около 10–12 см длины и около 1–1,5 см в диаметре основания. Малейшее движение опрокинет эту палочку. 1-е положение: ребенок стоит сдвинув ноги (пятки вместе, носки врозь) и держит досточку в обеих руках; другой ученик устанавливает палочку («Сфотографировать бы!» – замечает здесь в скобках Лев Семенович). <���…> 4-е положение: те же упражнения, только не развертывая ступни: носки вместе» и т. д., можно не продолжать ( Выготский , 2003 a ).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу