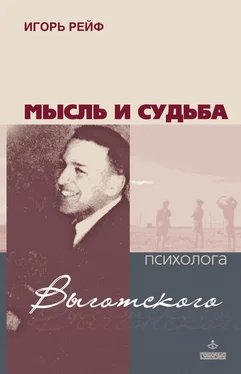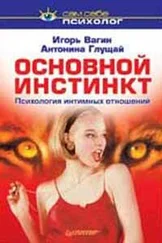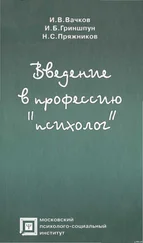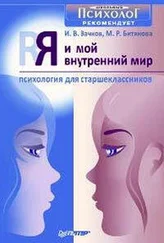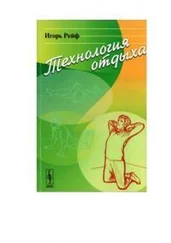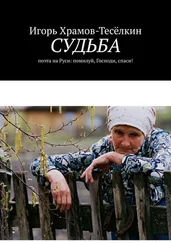1 ...7 8 9 11 12 13 ...34 Надо ли говорить, сколько яду вылил Выготский на этот тусклый плод педагогической мысли (хотя и признавая его со свойственной ему деликатностью и «свежим», и даже «самым передовым из всех, которыми мы располагаем в данной области»): «…Ставить точки с возрастающей быстротой, переносить наполненные водой сосуды, нанизывать бусы, метать кольца, разбирать бусы, вычерчивать буквы, сравнивать таблицы, принимать выразительную позу, изучать запахи, сравнивать силу запахов – кого все это может воспитать? Не сделает ли это скорее из нормального ребенка умственно отсталого, чем разовьет в отсталом не захваченные зубцами жизни механизмы поведения, психики, личности?» ( там же ).
Правда, справедливости ради следует сказать, что отечественные педагоги, находившиеся в плену германской дефектологической школы, никогда не заходили так далеко, как их пунктуальные немецкие коллеги. Например, из знаменитого училища для глухонемых И. Фаттера, где учитель, «заставляя усвоить трудный звук, мог выбить зуб у ученика и, вытерев кровь с руки, перейти к другому ученику или к другому звуку». Но рутины, слава Богу, и здесь хватало. Принимая подчас благовидные и даже добросердечные формы, она оборачивалась в конечном итоге искалеченными детскими судьбами.
Те, кто читал «Слепого музыканта» В. Короленко, помнят, должно быть, каким удесятеренным вниманием окружают такого ребенка взрослые и как он превращается постепенно в маленького семейного деспота. И хотя в чем-то автор, может, и погрешил против истины, пытаясь передать внутренний мир слепого, но социальный нерв трагедии нащупан им абсолютно верно. И если б не дядя Максим, старый вояка «гарибальдийского призыва», искалеченный в боях с австрийцами, сердцем солдата сумевший понять всю опасность этого сонного, обволакивающего плена, маленького Петруся ждала бы та же грустная участь, что и сотен других его собратьев по несчастью.
Да, ребенок с дефектом может быть окружен удесятеренной заботой и вниманием, а может стать помехой и обузой семьи. Но и в том и в другом случае он обречен на социально ущербную позицию («социальным вывихом» назвал это Выготский), которой, как правило, не знают нормальные, здоровые дети. И вот именно эта социальная ущербность, а не сам по себе дефект, в качестве такового ребенком, по утверждению специалистов, даже не ощущаемый, и есть тот настоящий жизненный крест, который он несет вместе со своими близкими, будучи отгорожен от остального мира стеной сострадательного отчуждения. «Причитания и вздохи, – приводит Выготский слова слепого А. М. Щербины, – сопровождают слепого в течение всей его жизни; таким образом, медленно, но верно совершается огромная разрушительная работа» ( Выготский , 2003 b ).
А между тем органический дефект – это не только изъян, не только глубокий рубец на психологическом теле личности, но и могучий стимул для ее творческого саморазвития. Ведь даже чтобы решить простенькую арифметическую задачку, которая для здорового ребенка семечки, слабоумному, например, требуется проявить на порядок больше творческой изворотливости, потому что обычный логический инструментарий ему, как правило, недоступен. Что уж тут говорить о слепоте, глухоте и других внешних по отношению к мозгу дефектах. Косноязычный Демосфен, заика Демулен, глухой Бетховен, тщедушный от рождения Суворов, слепоглухая Елена Келлер, сделавшаяся национальной героиней Америки (о ее поразительной судьбе даже написана пьеса, шедшая в одном из московских театров), – все это отнюдь не выдающиеся исключения из правила, а, наоборот, самое правило, в соответствии с которым чувство малоценности, возникшее у индивида в результате его дефекта, становится главной движущей силой психического развития личности.
«Какая освобождающая истина для педагога, – добавляет здесь Выготский, – слепой развивает психическую надстройку над выпавшей функцией, которая имеет одну задачу – заместить зрение; глухой всеми способами вырабатывает средства, чтобы преодолеть изолированность и отъединенность немоты! До сих пор у нас не принимались в расчет эти психические силы, эта воля к здоровью, социальной полноценности, которая бьет ключом у такого ребенка. <���…> Не знали, что дефект не только психическая бедность, но и источник богатства, не только слабость, но и источник силы» ( Выготский , 2003 a ).
Сохранилось воспоминание, как во время одного из клинических разборов, которые он регулярно проводил на базе ЭДИ и на которые стекалось чуть не пол педагогической Москвы, Выготскому показали ребенка, привезенного из деревенской глубинки. Все в деревне считали мальчика слабоумным, и лишь родной дед упорно не признавал этого всеобщего приговора и, как оказалось, был прав: у внука обнаружили тугоухость, слабоумие же было вторичным, мнимым. «Спасибо тебе, главный, – сказал, подойдя к Выготскому и низко поклонившись, старик. – Спасибо за то, что узнал моего внука, а ко мне, старику, отнесся с почтением. Много, где я был, а хороших людей увидел только здесь» ( Выгодская, Лифанова , 1996, с. 158–159).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу