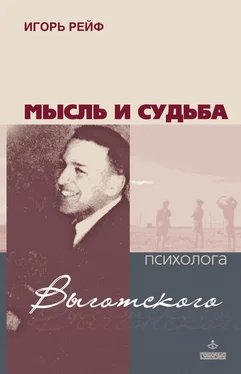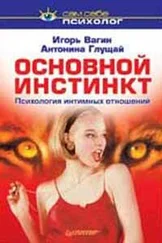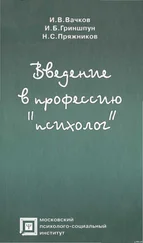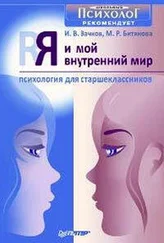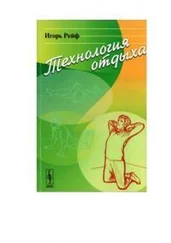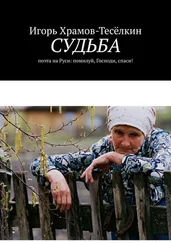«К чьему благу клонятся реакции…» Это можно было бы принять за злую пародию, если забыть, что значили в те годы подобные обвинения. Если не знать о зловещей реплике, брошенной Сталиным во время заседания в Кремле Н. И. Вавилову: «Это вы, профессора, так думаете, а мы, большевики, думаем иначе». И ведь Льву Семеновичу приходилось отвечать на подобную «критику», которую сегодня точно так же приходится брать в кавычки, как это сделано в заголовке цитируемой статьи по отношению к культурно-исторической теории. В семейном архиве даже уцелел листок с набросанными на нем тезисами одного такого ответа.
Однако абсурдность и трагизм положения Выготского усугублялись еще и тем, что стрелы летели из своих же рядов, из стана коллег-педологов, к которому формально принадлежал он сам; об узколобом фанатизме наиболее ретивых «идеологов» этого направления рассказал в книге «От двух до пяти» Корней Чуковский. А мог ли не знать истинную им цену сам Лев Семенович? И все же отравленные стрелы долетали до цели и болезненно ранили. Сохранилось свидетельство ученицы Выготского Б. В. Зейгарник, записанное М. Г. Ярошевским: «Он был гениальный человек, создавший советскую психологию. Его не понимали. Он бегал, я помню, как затравленный зверь, по комнате и говорил: “Я не могу жить, если партия считает, что я не марксист”. Если хотите, Выготский фактически убил себя, или, я так бы сказала: сделал все, чтобы не жить. Он намеренно не лечился» (Психологическая наука в России… 1997, с. 218). Инфицированный туберкулезом. Инфицированный марксизмом…
Но существовал, по счастью, и другой круг, прежде всего научной молодежи, студентов, художественной интеллигенции, где Выготский пользовался любовью и где понимали, или, быть может, чувствовали, масштаб его личности. «Я очень любил, – писал С. М. Эйзенштейн, – этого чудного человека со странно подстриженными волосами. Они казались перманентно отрастающими после тифа или другой болезни, при которой бреют голову <���у Льва Семеновича сохранялась с детских лет привычка сбривать на лето волосы. – И.Р. >. Из-под этих странно лежащих волос глядели в мир небесной ясности и прозрачности глаза одного из самых блестящих психологов нашего времени» ( Выгодская, Лифанова , 1996, с. 153–154). Что уж говорить о непосредственных учениках и студентах – для них он был кумиром. Причем неизвестно, что влекло к нему сильнее – блеск и щедрость его таланта или доброжелательность, доступность и безотказность.
Трудно сказать, как удалось ему на вершине своей короткой, пусть и неофициальной, славы сохранить в неприкосновенности эти немного провинциальные черты, но он действительно не умел никому отказывать. Хотя покушавшихся на его время и внимание было хоть отбавляй.
«Такой обстановки, в которой работал Выготский, не было еще ни у кого, – вспоминал в 1976 году А. Р. Лурия, – потому что еще при жизни он стал очень популярен, к нему ходили, он никому не отказывал, его квартира была наполнена с утра до ночи посторонними людьми. Потом он регулярно ездил в Ленинград и Харьков, и вообще неизвестно, когда он работал» ( Выгодская, Лифанова , 1996, с. 217).
А ведь были еще и разного рода общественные должности и нераздельные с той эпохой комиссии, занимавшиеся вопросами, связанными с детством. От комиссии по народному образованию и детской литературе при Наркомпросе и вплоть до секции народного образования Фрунзенского райсовета Москвы, депутатом которого он был избран и чем, кстати, гордился.
Являлась ли специфика «творческого метода» Выготского следствием неуемности его натуры или тут была печать вынужденной необходимости? И что побуждало его к этим «челночным» разъездам, чтению лекций в вузах Москвы, Ленинграда, Харькова, совместительству сразу в трех-четырех научных учреждениях? Известно, что последние месяцы жизни Льва Семеновича были окрашены легкой эйфорией по случаю предложенного ему поста заведующего вновь создаваемым отделом психологии при Всесоюзном институте экспериментальной медицины. Несмотря на обострившееся недомогание, он был радостно оживлен, строил планы на будущее, составлял штатное расписание и смету. Впервые забрезжила перед ним перспектива собрать под одной крышей, «в один кулак», своих многочисленных к тому времени учеников и развернуть давно уже созревшую в его мозгу программу исследований.
Но не означало ли это, что до тех пор он был лишен условий, сколько-нибудь отвечающих его положению и рангу в психологической науке? И что все это его «многостаночничество» было лишь способом прокормить свою небольшую семью? С. Степанов приводит свидетельство одной из слушательниц Выготского, вспоминающей, как удивляла студентов бедная одежда их любимого преподавателя. На лекции он приходил в изрядно потертом пальто, из-под которого виднелись дешевые брюки, а на ногах – в разгар суровой зимы – легкие туфли. И это у больного туберкулезом! «Обычно аудитория была переполнена, и лекции слушали даже стоя у окон. Прохаживаясь по аудитории, заложив руки за спину, худощавый стройный человек с удивительно лучистыми глазами и нездоровым румянцем на бледных щеках ровным, спокойным голосом знакомил слушателей, ловивших каждое его слово, с новыми воззрениями на психический мир человека, которые для следующих поколений приобретут ценность классических…» ( Степанов, 2002, с. 279).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу