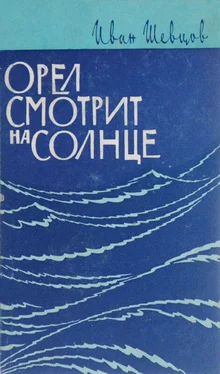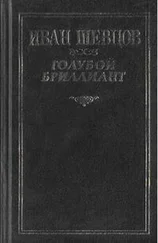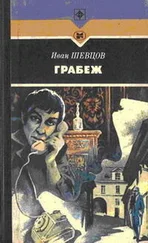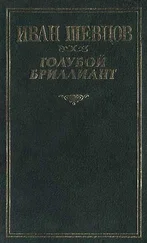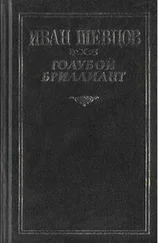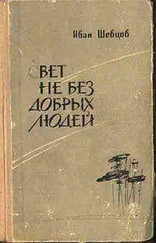Словом, это были педагоги прогрессивных демократических взглядов, люди, которые приложили много сил и старания, чтобы дать своим воспитанникам хорошее образование. Глуховцы могли потягаться с воспитанниками столичных университетов.
За три года учебы Сергеев-Ценский не только получил разносторонние знания. Он открыл для себя новый край на земле — Украину, полюбил ее язык, где каждое слово брызжет юмором, дивные песни, сильных, трудолюбивых и добрых людей. Слушая песни и шутки, задорный, торопливый говор женщин и степенную, невозмутимую речь мужчин, он ловил себя на одной мысли: что ж это такое? Кажется, совсем новое, неожиданно яркое, интересное и в то же время знакомое, будто где-то раньше он все это видел и слышал, «бачив» и «чув»? И тогда вдруг вспомнилось: да ведь это же Гоголь еще в детстве познакомил его с Украиной! А в Глухове произошло «личное знакомство» с Украиной. Это в Глухове Сергеев-Ценский подслушал классический «монолог» бабки Евдохи:
«Старуха Евдоха жила на кухне. Сидела, бруда-стела, драла перья на перины. Недавно ездила домой в село Бочечки — не ужилась там с братом Трохимом, — опять приехала сидеть на кухне, драть перья. Сидела, икала, тешила себя тем, что вспоминают ее в Бочечках:
— И-ик! Це мене внучка Иленька згадуе… Та чого ты, пташко! Мини хорошо тут, — чого?
— И-ик! Це вже Ваня!.. Ну и нема чого. Ты мий хлопчик, милый, милый, та щирый…
— И-ик! Це Трохим! Чого ты, стара собака! Гади ему, гади, а вин усе… от цепна собака! Усе гарчить да лается».
А главный герой «Движений» Антон Антоныч? Где, как не на Украине, впервые заприметил его неповторимую речь будущий писатель!
Нет, не похожи глуховские окрестности на тамбовские. И хаты другие, и характер людей иной. Жадно впитывал в себя молодой Сергеев-Ценский новые, необычные для него картины жизни.»
Сергей готовил себя к высокому и благородному труду учителя. С детства он видел в учителе человека, который все знает. Профессия отца для него казалась самой важной. Сеять разумное, доброе, вечное — что может быть почетней для гражданина отечества! А уж если говорить о сеятелях, так в их первых рядах он видел учителей.
Глава вторая
Учитель. Человек-полубог. Первые рассказы
Быстро пролетели студенческие годы. Институт он окончил с золотой медалью. Шел сентябрь 1895 года. Глуховские студенты-выпускники получали назначения. Вместе с другими получил назначение и Сергеев-Ценский — преподавателем языка и литературы в Немировскую гимназию Киевской губернии. Это назначение ему пришлось по душе. Он уже представлял, как придет в школу, как встретится с новым коллективом, как проведет первый урок. И вдруг военная повестка: его призывают «служить царю и отечеству».
Военные законы строги: начальство не спрашивает мнения нижних чинов, оно приказывает. И вместо школы Сергееву-Ценскому пришлось срочно выехать в полк. В армии был введен чин прапорщика запаса, и, чтобы получить этот чин, военнообязанные с высшим гражданским образованием должны были год прослужить в полку вольноопределяющимися и затем сдавать экзамены по военным предметам: тактике, топографии, фортификации и т. д. Сергей Николаевич Сергеев был направлен в 19-й пехотный Костромской полк, который вначале стоял в городе Батурине Черниговской губернии, а вскоре был передислоцирован в Житомир.
Целый год изучал Сергей Николаевич военное дело. Непродолжительная служба в царской армии и личное знакомство с воинской муштрой, принижающей и оскорбляющей человеческое достоинство, произвели на молодого учителя гнетущее впечатление. Он, наконец, начал понимать своего отца, который, будучи офицером, ушел в отставку, предпочтя военной карьере скромную должность земского учителя. Однако это не помешало Сергею Николаевичу со всей серьезностью изучить военные науки.
В сентябре 1896 года его произвели в прапорщики запаса и освободили от воинской повинности. В школах уже начался учебный год — нужно было спешить. Не теряя ни одного дня, учитель без практики, новоиспеченный прапорщик запаса Сергеев отбыл в Каменец-Подольск, чтобы начать работу «по специальности». «Каменец-Подольск; красиво расположенный на берегах речки Смотрич, старинный город, бывший некогда под властью и турок и поляков.
Турки оставили тут память в виде старой крепости, называемой турецким замком и бывшей тюрьмою. Часть города вблизи этого замка так и называлась Подзамчье. Поляков жило здесь и теперь много в самом городе и в пригороде, носившем название «Польские фольварки». В городе было несколько польских костелов, между ними и кафедральный. По крутым берегам Смотрича там и тут поднимались каменные лестницы, все дома в городе были каменные, все улицы были вымощены булыжным камнем, — город вполне оправдывал свое название».
Читать дальше