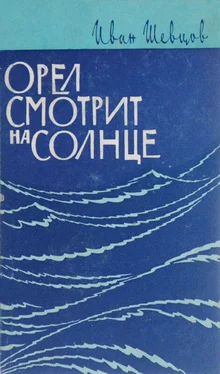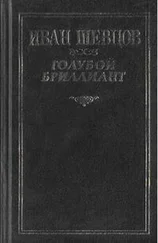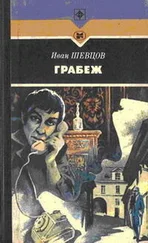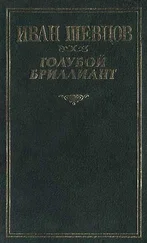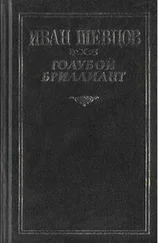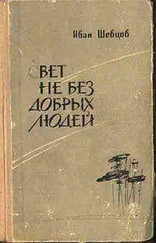А после, дома, была бессонная, тревожная ночь.
За окном, в старых дубах, порывисто шумел дождь. Сергей твердыми шагами ходил по кабинету отца. То и дело садился за стол, записывал в тетрадь несколько строк, затем снова ходил и снова записывал. Стихотворение называлось:
БУРИ!..
Тихо, тихо, как в могиле,
Летний полдень жгуч и душен.
Мир вокруг мертвящей силе
Точно немощный послушен.
Темный лес не шелохнется,
Замерла былинка в — поле;
Крикнешь — даль не отзовется,
И умолкнешь поневоле.
Где вы, тучи? Встаньте гневно,
Заслоните блеск лазури,
Оборвите сон полдневный
Свистом ветра, ревом бури!
Огласите даль громами,
Затопите поле влагой,
Пронеситесь над ветвями
С необузданной отвагой.
Всколыхните сонной чащей
Так, чтоб лес пришел в смятенье,
Чтобы понял он, дрожащий,
Что в покое нет спасенья.
Бури, бури! Молний, грома!
Жизни мощной, жизни дикой!
Чтоб бессонная истома
Не сковала мир великий!
Под стихотворением он поставил размашистую подпись «С. Сергеев». Потом, подумав, дописал: «Ценский».
Уснул далеко за полночь под шум дождя и ветра. Проснулся, когда в окно глядело солнце, тарахтела по улице подвода и осипший голос утильщика привычно кричал:
— Тряпки, железо! Тряпки, железо!..
Сергей собрал свой чемоданчик — вещи, оставшиеся после смерти родителей, он продал за бесценок еще накануне — и вышел из дому, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Кликнул извозчика, не спеша сел в пролетку. Угрюмый бородач, натянув вожжи, спросил:
— На вокзал прикажете?
— К Цне, — мрачно ответил Сергей.
На берегу реки он вышел из пролетки, снял картуз и долго глядел на Цну. Милые сердцу картины детства, отрочества! Словно чья-то рука схватила за горло и душит, не дает слова вымолвить.
Прощай, зеленое апрельское детство!.. Низкий поклон вам, красавица Цна и родной Тамбов!..
Сел в пролетку и сказал извозчику дрожащим голосом:
— А теперь на вокзал.
Он выходил на большую, трудную дорогу полный решимости, надежд и молодых сил. Впереди лежали дымчато-синие дали, незнакомые, неразгаданные, не обещающие легкой жизни, особенно если учесть, что тебе через два месяца исполнится лишь семнадцать и все твое состояние — несколько десятков рублей.
На исходе было лето 1892 года.
После гимназии — университет или институт. Так говорил сыну Николай Сергеевич. Сережа иначе и не мыслил своего пути в жизнь. Но внезапная смерть родителей поломала все планы. Об университете теперь не могло быть и речи. Оставалось единственное — учительский институт, где студентов обучали на «казенный кошт». Таких институтов было немного в стране. Один из них — Глуховский — и выбрал Сергеев-Ценский.
Небольшой украинский городишко Глухов, пожалуй, только и славился своим институтом, куда поступали главным образом 25—27-летние сельские учителя, окончившие учительские семинарии и имевшие педагогическую практику. Люди серьезные, в основном выходцы из «среднего сословия», испытавшие, «почем фунт лиха», они и к учению относились серьезно.
У тамбовского юноши шансы на поступление в институт были ничтожны: ему не было необходимых по условиям конкурса 17 лет. Но он пошел к директору и рассказал о себе все «начистоту». К счастью, руководитель института Александр Васильевич Белявский оказался человеком чутким и отзывчивым. Он зачислил Сергея на «казенный кошт» и допустил держать конкурсные экзамены.
Несмотря на то, что Сергей был самым молодым среди студентов, товарищи относились к нему с уважением, ценили его за живой, острый ум, за творческое отношение к изучаемым предметам. Попав в такую «чинную» среду, где даже студенты младших курсов обращались друг к другу по имени и отчеству и на «вы», Сергей Сергеев окончательно почувствовал себя взрослым.
Из-за чрезвычайно уплотненной учебной программы свободного времени у студентов было немного. Преподаватели предъявляли к ним высокие требования. О развлечениях некогда было и думать. В числе преподавателей были весьма почтенные, известные в ученых педагогических кругах люди, авторы печатных трудов. Они и составляли славу и гордость института. Историю, например, преподавал Иван Семенович Андриевский (впоследствии директор института), автор книги «Генезис науки, ее методы и принципы»; преподаватель естествознания (впоследствии директор Московского учительского института) Михаил Иванович Демков написал «Историю педагогики», а словесник Григорий Емельянович Линник написал «Корнесловие» и ввел в учебный курс института «Записки по русской грамматике» А. Потебни.
Читать дальше