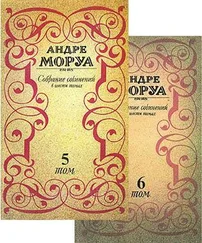Августа впервые жила со своим братом в непосредственной близости, под одним кровом, и с удивлением узнавала, что это за человек. Она видела заряженные пистолеты, которые он на ночь клал около своей постели: она слышала рассказы о его кошмарах, таких ужасных, что он иногда звал Флетчера, который приходил и успокаивал его. Во сне он так сильно щелкал и скрежетал зубами, что клал салфетку в рот, чтобы не прикусить язык. Он всю ночь не спал, пил газированную воду, выпивал до двенадцати бутылок, его мучила такая жажда, что он иногда ломал горлышки бутылок, чтобы поскорей напиться. Утром принимал невероятные дозы магнезии. Этот нелепый режим плохо отражался на его пищеварении. Ярость, в которую он иногда впадал из-за каких-нибудь пустяков, была неописуема. Августа узнавала в нем характер Кэтрин Гордон и думала, что если он женится, жене его придется нелегко.
В конце января миссис Ли, беременность которой уже сильно подвинулась, принуждена была вернуться к себе.
* * *
Среди природы, наедине с любимым существом человек редко чувствует себя несчастным. Пребывание в Ньюстеде было веселой любовной интермедией. Но как только Байрон вернулся в Лондон, он снова попал в бурю. Она надвигалась на него со всех сторон. Его отношения с Августой становились предметом городских сплетен. В его манере рассказывать о собственных делах, показывать чужие письма обнаруживалась исключительная несдержанность. Он откровенничал с сотнями людей, и нередко с самыми неподходящими. Каролина Лэм сплетничала. В Итоне школьники, читая «Абидосскую невесту», спрашивали племянника миссис Ли, не Зюлейка ли его тетка? Сам Байрон, неспособный молчать, высказывал в салоне миссис Холэнд самые смелые теории о взаимоотношениях братьев и сестер. «Есть одна женщина, которую я сильно люблю, — заключал он. — Она ждет от меня ребенка; если это будет девочка, мы назовем её Медора». Выходя из салона, гости, покачивая головами, обсуждали эти слишком явные намеки. Открыть за ним преступление, которому, по словам леди Мельбурн, нет прощения на этом свете, было тем более приятно, что Байрона пламенно ненавидели. Он занял в палате лордов позицию радикального вига, которая не могла понравиться. Он никогда не скрывал своего восхищения Наполеоном; хотя союзники уже вступили во Францию, он все еще продолжал надеяться, что его Бонапарт, «его герой», разобьет их. Ему казалась ужасной возможность возвращения к «старой, нелепой, надоевшей системе европейского равновесия, которая вся заключается в том, чтобы удержать в равновесии соломинку на носу короля». Он пускался в такие рассуждения открыто в стране, находившейся на военном положении, в стране, где его талант и любовные похождения создали ему уже немало врагов. Лондон накопил столько злобы против поэта, который позволял себе быть гениальным, обладать красивой внешностью и держаться независимо, что малейшего толчка было достаточно, чтобы кристаллизовать эту злобу в насыщенный ненавистью яд. Толчком оказалось его стихотворение в восемь строк, которое год назад он написал против принца-регента. Рассказывали, что, когда принц покинул своих друзей-вигов, его дочь, принцесса Шарлотта, заплакала, и Байрон послал ей анонимный стишок:
Плачь же, дочь королевского дома,
Обесчещено царство, опозорен отец…
Никто тогда на это не обратил внимания, но когда печатался «Корсар», Байрон изъявил желание прибавить к нему адресованное принцессе восьмистишие и признать себя его автором. Меррей благоразумно предостерегал его, что это может быть опасно. «Не все ли мне равно, что за этим последует, — возразил Байрон. — Мои политические убеждения для меня то же, что молоденькая любовница для старика: чем они отчаяннее, тем больше я ими дорожу». Два четверостишия подняли в печати бурю страшнейшего негодования. Ругали не только политические взгляды Байрона, но и его характер, его произведения, даже его физический недостаток. Несколько пасквилей отличались такой несдержанностью, что друзья Байрона советовали ему проучить клеветников. Он ответил, что может испытывать ненависть к людям себе равным, но что ему не доставляет ни малейшего удовольствия давить уховерток, как бы они ни были ему противны.
Как это всегда бывает, газетная буря «подняла книгу на вершину успеха». В день выхода в свет продано было тринадцать тысяч экземпляров — цифра до тех пор небывалая для поэтического произведения.
Успеху способствовал не только скандал; многие находили в этой поэме, несмотря на её странный сюжет (который тогда никого не удивлял), непосредственное и вполне современное откровение, которое отвечало их желаниям. «Возвышенный стиль, презрение ко всему банальному, низменному, смелость (корень всех доблестей), которая не останавливается ни перед чем, идет до конца, любовь к необъятному простору, свободе, и этот ритм, напоминающий ритм волн, разбивающихся о берег, — все это неудержимо пленяло читателей». Для поколения, тоскующего о сильных переживаниях, Конрад был воплощением мужества, человеком, идущим до конца в своих инстинктах. «Влияние Байрона было исключительным. Его читали все. Мужчины, женщины, которые никогда не интересовались поэзией, читали его стихи; старые моряки, лавочники, чиновники, портные, модистки, а также и высокие ценители искусства помнили наизусть целые страницы его поэмы». В «Корсаре» еще больше, чем в «Чайльд Гарольде», Байрон являлся поэтом мятежников, всех тех в Европе, кто отчаялся в свободе политической и в свободе чувств.
Читать дальше