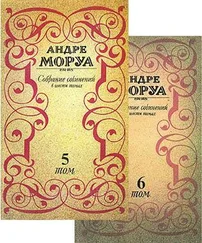Напечатать поэму о кровосмесительной любви было опасно, признавать, что эта поэма связана с его жизнью, — еще опаснее. Однако он писал Гэльту: «Первая часть — это наблюдения из моей собственной жизни»; и леди Мельбурн: «Скоро выйдет моя новая турецкая сказка… По известным причинам она заинтересует вас больше, чем кого-либо. Мне хочется узнать, что вы думаете о моих сочинениях, — это я сам или нет?» Зачем эти признания? Почему не умолчать? Почему? Мог ли он поступать иначе? Он был неспособен, как Августа, легко и естественно забывать свои поступки. Он без конца пережевывал ошибки, перебирал свои мысли. «Я беру книги и бросаю их. Начал писать комедию и сжег ее, потому что сюжет возвращался к действительности; роман — по той же причине. В стихах я могу держаться несколько дальше от фактов, но мысли эти проходят через все… Да, через все…»
После своего возвращения от Уэбстеров он, чтобы отвести душу, вел дневник, и всеобнимающий удивительный контакт мысли Байрона с действительностью, крепкая поэтичность ракурса обращали этот дневник в настоящий шедевр. Там он осуществлял в каждой строчке то, что в «Чайльд Гарольде» являлось лишь чудом отдельных строф: охватывал всего себя целиком. Его эгоизм, «его проклятый эгоизм способствовал тому, что толчок мыслей продолжался на бумаге с такой же силой и с такой же реальностью, как в сознании». Жизнь его превратилась в бесконечный диалог Байрона с Байроном. Вечером, закрывая дневник, Байрон писал Байрону: «Ну вот, я зеваю, — итак, спокойной ночи, Байрон!»
Он отмечал внешние события, но как обозревающий с вершины скалы, смешивая в невозмутимом равнодушии тигра и слона, виденных им где-нибудь в зверинце, с Клеопатрой Шекспира, поражавшей его «как законченное воплощение всего её пола — любящая, живая, грустная, нежная, задорная, смиренная, высокомерная, прекрасная, вот чертовка! — и кокетка до конца, как с аспидом, так и с Антонием».
Никогда никакой документ не разоблачал лучше неподвижность этой души. Спустя пятнадцать лет он размышлял еще о своей любви к маленькой Мэри Дюфф. Мне было бы грустно увидеть её теперь: действительность, как бы она ни была прекрасна, уничтожила или, во всяком случае, изменила бы черты прелестной Пэри, которыми она обладала тогда и которые еще живут в моем воображении». Внешне он вел веселую жизнь, ужинал с Муром, с Шериданом, занимался боксом с Джэксоном, избегал мадам де Сталь, которая ему надоедала. Но внешние признаки страстей трудно уловить. Он страдал. Мысль проходила через все… Что сделать, чтобы забыть? Действовать? Может быть, в этом было спасение. Ему всегда казалось, что он был создан для действий, а не для поэзии. «Кто бы стал писать, если бы у него было, что делать? «Действия, действия, действия», — говорит Демосфен. «Действий, действий, — говорю я в свою очередь, — и не писать, и меньше всего стихи». Зевая, как огромный зверь за решеткой света, он отправлялся с обеда на бал и мечтал о тихом Востоке. «Чего я сижу здесь? Я не пользуюсь, никогда не пользовался и не могу пользоваться популярностью. Я никогда не завоевывал общества: все, что оно дало мне, было мне дано только из каприза. Здесь я прозябаю; там я всегда был в действии или, по крайней мере, в движении. Я мрачно тупею от этой жизни моллюска, которую веду здесь. Ненавижу цивилизацию».
* * *
Тень леди Фрэнсис первая подверглась изгнанию. Она писала ему письма, где слишком много говорилось об излияниях и душах (каролинический стиль) — ему это надоело. «В конце концов, если находятся люди, которые хотят остановиться на неопределенном наклонении глагола «любить», они не должны удивляться, когда спряжение заканчивают с другими».
— Как быстро вы забываете! — говорила ему леди Мельбурн.
— Но во имя святого Франциска и его снежной девы, во имя Пигмалиона с его статуей, что мне здесь было забывать? Несколько поцелуев, которые ни ей не принесли большого вреда, ни мне большого блага. Пустячное приключение, этот уэбстерский эпизод, но оно подтвердило его мнение о женщинах. Безусловно, леди Фрэнсис кончит тем, что возьмет себе любовника посмелее. «Совершенно невозможно, чтобы она могла любить мужчину, который проявил по отношению к ней такую слабость, как я».
Не защищенный больше другим чувством, он снова порывался к Августе, когда вдруг получил неожиданное письмо. Это было письмо от Утренней Звезды Эннсли, от его М. Э. Ч., «my old love of lofes», совсем маленькая записочка: «Дорогой лорд, если вы будете в Ноттингеме, приезжайте навестить меня в Эдуолтон, где вы найдете очень старую и очень преданную приятельницу, которая очень хотела бы вас увидеть. Преданная вам Мэри». Все чудесные печали прошлого воскресли от этих четырех строчек. Он знал, что она несчастлива. Джек Мастерс был нелегким супругом. Его фермеры говорили, что он лучший из хозяев, но что они любили бы его больше, ежели бы он был не так падок на их девушек! Амазонки-охотницы делили с крестьянскими девушками его привязанности. Грустная, униженная супруга покинула Эннсли и жила теперь со своей подругой в маленьком домике около Ньюстеда. Байрон не мог подумать без жалости о своей Мэри, с которой жизнь поступила так жестоко. Избалованная наследница, обожаемая матерью, всеми слугами в доме и им, Байроном, — наверно, ей сейчас очень тяжело.
Читать дальше