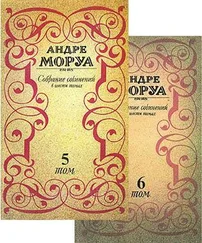Однако тот предоставлял ему удобный случай, так как попросил Байрона пригласить его в Ньюстед, где он месяц назад провел несколько дней и слишком пристально залюбовался прелестями одной из благосклонных нимф аббатства. Вечером Байрон писал леди Мельбурн:
«Если бы у меня были дурные намерения, я мог бы прекрасно обделать дело, повернуть все это в мою пользу, но я стал так добродетелен и так ленив, что не воспользуюсь даже и благоприятной возможностью… Он предложил мне с величайшей серьезностью увезти его в Ньюстед, на что я с неменьшей откровенностью сказал ему, что он может поехать когда угодно, но я останусь здесь смотреть за домом в его отсутствие — предложение, которое мне казалось весьма разумным, но ему почему-то очень не понравилось. Чтобы успокоить меня, он прочел целую проповедь о добродетелях своей супруги и в заключение сказал, что всеми своими нравственными и физическими качествами она очень похожа на Христа! Мне кажется, что дева Мария была бы несколько более уместным сравнением!»
Когда на следующий день Байрон уезжал из Эстон-Холла, супруг горячо приглашал его приехать еще раз. Супруга ничего не сказала, но смотрела томно. Поехать ли ему? «Сейчас ему не к кому будет ревновать, разве только к викарию или к мажордому, и у меня нет ни малейшего желания навязываться самому. Я, собственно, не совсем понимаю, что нужно даме здешних мест… Она как будто ждет атаки и, похоже, приготовилась дать блестящий отпор; мне предшествовала здесь репутация развратника, и мое спокойное, равнодушное поведение в прошлый приезд до такой степени поразило ее, что она начинает считать себя уродом, а меня слепым или хуже…»
Столь похвальное воздержание Байрона должно было бы, по крайней мере, обеспечить ему спокойное пребывание в доме его друзей. Но люди часто не видят подлинного смысла поступков. Взамен живого человека они рассматривают фиктивный персонаж, созданный басней. Если Дон Жуан избегает смотреть на женщину, ему приписывают самые злодейские намерения. В кои-то веки бедному Байрону захотелось пощадить спокойствие супружеской четы, здоровье хрупкой женщины, — супруг сделался нервным, раздражительным, подозревая, что за этой невозмутимостью скрываются чудовищные умыслы.
Байрон — леди Мельбурн: «Уэбстер становится невыносимым. Он возмущается моими итальянскими книгами (Данте и Альфьери) и просил меня не показывать их его жене, потому что, черт возьми!!! от этого дьявольского языка может быть страшный вред!!! Я спросил его, как поживают Стэнхопы, наши общие друзья, а он мне ответил: «Скажите, пожалуйста, вы в таком же стиле справляетесь у других, как поживает моя жена?» Итак, вы видите, что моя Добродетель должна в самой себе искать награду — так как никогда ни словом, ни делом я не проявлял интереса к его супруге. Она хорошенькая, но ничего особенного, слишком худа и не очень подвижна; но у неё хороший характер и что-то такое своеобразное в манерах и поведении; разумеется, я бы не стал думать о ней и ни о ком другом, если бы меня предоставили моим мыслям, потому что у меня нет ни терпения, ни самонадеянности заходить вперед, если меня не встречают на полдороге».
Байрон, человек без всякого самомнения, действительно никогда не шел вперед, не будучи уверенным, что его встретят. «Я могу утверждать, — говорил он совершенно искренно, — что никогда не соблазнил ни одной женщины». Он с таким же изумлением взирал на свои любовные успехи, как на свои успехи в литературе. Доступность женщин была для него предметом постоянного удивления, и в глубине души он считал её позорной. Со дня своего приезда в Эстон-Холл он был убежден, что нимало не интересует эту молоденькую белокурую сдержанную женщину, которая смотрела на него холодным взглядом из-под длинных ресниц. Но подобно большинству Эльвир леди Фрэнсис готова была пройти чуть побольше, чем половину дороги. Ей удалось устроить так, что она осталась вдвоем с Байроном в бильярдной.
«Мы были до этих пор на дружеской ноге, я припоминаю, что она однажды задала мне странный вопрос: «Как может женщина, которой нравится какой-нибудь мужчина, дать ему это понять, если он сам этого не замечает?» Я обнаружил, что мы играем без счета; это внушило мне предположение, что если мои мысли не очень поглощены нашим занятием, так же дело обстоит и с моей партнершей. Весьма довольный своими успехами, но желая большего, я сделал отважную попытку с бумагой и пером, в очень нежной и не очень плохо написанной прозе… Это было рискованно, конечно. Как это передать? Как это будет принято? Это было принято очень хорошо и спрятано недалеко от сердца, коему это послание и предназначалось; в эту минуту я увидел, как в комнату вошла особа, которой надлежало в данный момент быть где-нибудь в Красном море, если бы Сатана обладал хоть малейшей учтивостью. Она сохранила самообладание и записку. Мое письмо преуспело и даже больше (сейчас меня прервал marito, и я пишу это перед ним, он мне принес какой-то свой политический памфлет в рукописи, чтобы я прочел и одобрил; я ограничусь только одобрением, уф! — он ушел) — мое письмо вызвало ответ, весьма недвусмысленный, но слишком обильный рассуждениями о добродетели и возвышенной любви, которая касается главным образом душ, что я не совсем хорошо понимаю, будучи плохим метафизиком; но обычно начинают и кончают платонизмом, и так как моей прозелитке всего двадцать лет, мы, надо думать, успеем дойти и до твердых тел. Впрочем, надеюсь, что бесплотный период не слишком затянется; во всяком случае, стоит попробовать. Я вспоминаю, что в моей последней истории ход событий был совершенно обратный, мы, как советует майор О’Флаерти, «сначала сразились, а объяснились потом». Сейчас положение таково: масса взаимных признаний, обильная меланхолия, которая, к моему глубокому огорчению, была замечена Мавром, и столько доказательств любви, сколько можно позволить, принимая во внимание время, место и обстоятельства. До свидания, отправляюсь в бильярдную».
Читать дальше