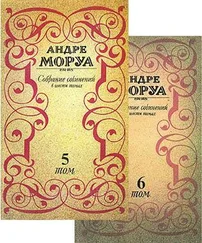Однако Дон Жуан не был человеком, способным плато-низировать вечно. Если бы даже его темперамент и выдержал, гордость не перенесла бы этого. Печати обладания недоставало этому приключению. Нужно было победить, хотя бы для леди Мельбурн. Но замок Эстон-Холл из всех замков Англии меньше всего подходил для победного финала. Самое большее, что можно было здесь себе позволить, это короткие встречи, удобные только для беглых поцелуев. Оставалось воспользоваться ночью, но расположение комнат не позволяло ночных визитов.
Уже давно возникал разговор о поездке на два-три дня группы обитателей Эстон-Холла в Ньюстед. Байрон, весьма поддерживаемый женщинами, воскресил этот забытый проект. Уэбстер не возражал. Знаменитая нимфа все еще притягивала его.
В Ньюстеде Байрон чувствовал себя в своей сфере. Престиж аббатства увеличивал его собственный престиж. Он показывал гостям свой готический замок, свое озеро, аллею монахов, прелестный монастырский фонтан. Он наполнил вином череп в присутствии восхищенной леди Фрэнсис. Он прогуливался с нею в парке, где олени и лани следовали за ними под высокими дубами. Он чувствовал её благоговение и покорность. В этом так хорошо знакомом ему доме нетрудно было устроить ночное свидание. В полночь невинные возлюбленные встретились одни, вдалеке от всех.
«День, когда мы очутились всецело предоставленными самим себе, оказался чуть ли не роковым — еще одна такая победа, и мы с Пирром пропали. Вот чем это кончилось. «Я в вашей власти. Я признаюсь в этом; предаюсь вам вполне. Я не бесстрастна, как это может показаться, но не перенесу размышлений, которые за этим последуют. Не думайте, что это одни только слова. Я вам говорю правду, — а теперь поступайте, как хотите». Прав я был или нет? Я её пощадил. Было что-то такое необычайное в её поведении, какая-то кроткая решимость — не ломанье, не борьба — что-то такое неуловимое, что убедило меня в том, что она говорит серьезно. Это не было обычное «нет», которое слышишь сорок раз и всегда с той же интонацией, но тон и вся манера… Но я принес большую жертву: два часа ночи — ни души — бес, нашептывающий, что это все пустословие… И все-таки не знаю, могу ли я об этом жалеть, она, кажется, так признательна моему великодушию, и это хоть одно доказательство того, что она не разыгрывала обычного увиливания скромности, что иногда бывает просто невыносимо в таких случаях. Вы спрашиваете меня, готов ли я идти до «конца»? Я отвечаю «да». Я её люблю».
В течение нескольких дней он переживал мучительную внутреннюю борьбу. Она предавалась ему всецело. «Только чтобы не вызывать вашего неудовольствия… Только чтобы вы не полюбили другую, я сделаю все, что вы хотите». Он чувствовал себя обезоруженным; она казалась ему такой хрупкой, такой бледной. Он видел, что она готова заплакать. Что делать?
Он сжалился и пощадил ее. «Она очень боялась Дьявола, а у него не очень-то в милости, чтобы удовлетворять мои собственные страсти ценой несчастья бедной женщины». Может быть, это была ошибка? Не был ли он обманут чувствами, лучшими из всех, когда-либо пережитых им? Возможно, леди Мельбурн еще раз сказала бы, что он не знает женщин. Неважно, он и не претендовал на то, чтобы знать их. Впервые за долгое время он был доволен собой. Он в минуту слабости решился уступить доброму чувству, которое его тщеславие повелевало ему задушить. Это доброе чувство было его собственной наградой. «К счастью, надо сказать, так как никакой другой не было». Однажды утром влюбленные простились. Байрон казался очень растроганным, леди Фрэнсис загадочной. Что же касается Джемса Уэддерберна Уэбстера, он подарил Байрону на память об этих двух неделях табакерку, украшенную весьма пылкой надписью.
Трудно не увидать того, что ищет XIX век; все увеличивающаяся жажда сильных ощущений — вот истинный его характер.
Стендаль
Сказать правду, Дьявол слишком щедро разбрасывал крючки с приманкой для уловления души, которая принадлежала ему, быть может, до её рождения. Байрон хотел бежать от инцеста, перенести свои чувства на другой объект, ему казалось, что он уже у цели. Но в последнюю минуту из добрых чувств оказался ни с чем. Раскаяние мучило его день и ночь. Раскаяние, что он потерял Августу, раскаяние, что он пощадил Фрэнсис Уэбстер, тщетные мечты о том, что могло бы быть, тщетные сожаления о том, что было. «Поэзия, — говорил он, — это лава воображения, которая, извергаясь, предупреждает землетрясение». В минуты, когда землетрясение казалось близко, он писал без усилий и помногу. Еще с лета он задумал новую восточную сказку «Абидосская невеста». Зюлейка, полюбившая своего брата Селима. История инцеста — неосторожная тема, но он не мог помешать своему гению бродить вокруг этих образов. Вернувшись в Лондон, он, стремясь успокоить брожение своего ума, написал в четыре ночи эту поэму в тысячу двести строф. Он соединил в ней два преследовавших его образа — Августы и леди Фрэнсис. «Если бы я ничего не делал в тот момент, то свихнулся бы от того, что слишком объелся собственным сердцем — горькая диета».
Читать дальше