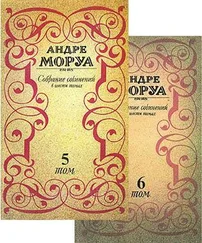Вернулся домой, опять читал Митфорда, играл с собакой, дал ей поужинать… Сегодня вечером в театре, когда в последней сцене появился принц на троне, публика начала хохотать и требовать у него «Конституции». Это так же, как и убийства, показывает, каково здесь настроение умов. Так продолжаться не может. Должна бы существовать всеобщая республика — и я думаю, что так и будет.
Ворон хромает на одну лапу — как это могло случиться: полагаю, какой-нибудь идиот наступил на нее. Сокол очень живой, коты жирны и шумливы, обезьян я не видел с тех пор, как холодно; да им и неприятно, когда их сюда поднимают. Лошади должны быть довольны; как только погода позволит — поеду верхом. Скверное сейчас время — итальянская зима невеселая штука, но остальные времена года очаровательны».
Это был почти что тон лондонского дневника времени «Корсара». Почти, но не совсем. Поток лавы застыл. Внутренняя борьба была уже не так горяча. Байрон несколько смирился с нелепостью жизни и даже со скукой. Он еще хотел волнений, но уже не искал их больше в любовных страстях; темперамент был менее живым, волосы поседели.
«Почему я всю свою жизнь более или менее скучал? И почему теперь это не так сильно, как когда мне было двадцать лет, если воспоминания меня не обманывают? Я не знаю, полагаю, что это в моей природе. Воздержание и гимнастика, к чему я прибегаю время от времени, ничего в этом не меняют. Бурные страсти помогали, когда я находился под их непосредственным влиянием, — странно, но это приводило меня тогда в повышенное настроение, я не был угнетен. Плавать тоже хорошо для моего настроения, но в общем оно мрачно и становится все мрачнее день ото дня. Это безнадежно, потому что кажется, что мне не так скучно, как было в девятнадцать лет. Доказательством служит то, что необходимо было тогда играть, пить или что-нибудь делать, без чего я чувствовал себя несчастным. Теперь я могу томиться спокойно…
Но чувствую, как во мне растут лень и отвращение, более могущественные, чем безразличие».
Ничто уже больше не внушало ему живых чувств. Он был слишком англичанином, чтобы принимать всерьез свою итальянскую жизнь, а Англия была не более чем далекий сон. Иной раз звук, запах, чтение пробуждали минувшее. Стих Коули «Под волной стеклянной, свежей и прозрачной» вызывал на мгновение струящийся и дрожащий образ ствола дерева со странными очертаниями, который он видел в Кембридже на дне реки, когда нырял с Лонгом. «О, на улице играет шарманка — и это вальс. Хочется перестать писать и слушать. Она играет вальс, который я слышал десять тысяч раз на лондонских балах между 1812 и 1815 годами. Странная вещь — музыка…» Тени скользили. Каролина Лэм в вальсе… Он знал, что в этом году на балу у Олмэк она появилась, одетая Дон Жуаном, со свитой чертей. Для неё драма кончилась маскарадом. Что касается леди Байрон, он пришел в негодование, узнав, что она была дамой-патронессой благотворительного бала. Патронесса бала, в то время как её муж в изгнании рискует своей жизнью для чужого народа. Ему было очень горько. Если бы он мог увидеть дневник, который вела в это время Аннабелла, он прочел бы следующее:
«Вышла рано утром, чтобы посмотреть на мой старый дом на Пиккадилли. С улицы видела комнату, где мы так часто были вдвоем, это похоже на то, как будто я жила там с другом, который давно уже умер для меня. Не осталось ни тени прежних моих мучений. Только могильная тишина».
Байрону тоже иногда казалось, что их письма — диалоги мертвых. Все же он продолжал поручать ей Августу: «Какова она ни есть, какова бы она ни была, вам никогда не было причины жаловаться на нее. Наоборот. Вы не можете знать, чем вы обязаны ей. Её жизнь и моя, ваша жизнь и моя — это были вещи совершенно разные. Когда одна кончилась, началась другая. А теперь обе оборвались».
Друзья были далеко. Хобхауз, выступивший в парламенте со своей ярой радикальной политикой, угодил в тюрьму. Флетчер выкопал эту новость в итальянской газетке. Байрон посмеялся. Во-первых, потому, что «Рошфуко» (как он говорил) прав, и несчастья друзей всегда заставляют нас смеяться, но еще и потому, что он не любил демагогии, так же как и тирании, одной из форм которой она является. Он написал комические стихи о пленении Хобхауза, который рассердился на это. Скроп Дэвис проигрался вконец и должен был бежать на континент. Можно ли представить себе Лондон без дэвисовского заикания? «Брюмель в Кале, Скроп в Брюгге, Бонапарт на Святой Елене — вы в вашем новом жилище (тюрьме), а я в Равенне, подумайте! Столько великих людей! Ничего подобного не бывало с того времени, как Фемистокл был в Магнезии, а Марий в Карфагене».
Читать дальше