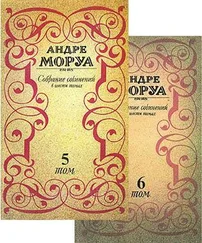Вам должна была бы очень понравиться будущая леди Байрон по трем причинам: 1) она великая защитница настоящей леди Байрон и всегда говорит, что уверена, будто я отвратительно с ней обращался; 2) очень хорошо относится к вам; мне стоило труда помешать ей написать вам одиннадцать страниц (она очень любит писать письма); 3) прочитав «Дон Жуана» во французском переводе, она взяла с меня обещание не продолжать его, заявив, что это отвратительно… В ней много нашего. Я хочу сказать, что она умеет подмечать смешное, как тетя Софи, как вы и все Байроны».
Очень может быть, что изумительное постоянство Байрона в этой истории до некоторой степени объясняется теми «байроновскими чертами», которые он неожиданно, но тем не менее действительно нашел в Терезе.
Указ о разводе приказывал госпоже Гвиччиоли жить у отца. 16 июля 1820 года она уехала на виллу графа Гамба недалеко от Равенны. Кардиналы, может быть, думали таким образом разлучить любовников, но Гамба, отец и сын, любили Байрона, разделяли его политические убеждения и покровительствовали этой любви. Его принимали в их загородном доме, куда он приезжал верхом не один раз в месяц в продолжение всего лета. Осенью, когда Тереза вернулась в Равенну, он мог видеть её у Гамба каждый вечер. Она была изумительно верна ему: «Я уверена в своей любви, — писала она, — больше, чем в том, что увижу завтра солнце… У меня был один грех, один и останется».
В общем, положение не было неприятным. Таинственность и трудность свиданий, смесь конспирации и любви не позволяли усталости проникнуть в эту связь. Байрон провел один холодную и долгую зиму 1821 года во дворце Гвиччиоли. Дороги были покрыты снегом, лошади приплясывали в конюшне. Он сидел дома, читая и поглядывая на огонь. Но что можно найти в книгах? «Кто может сказать что бы то ни было, чего Соломон давно уже не сказал до нас…» Опять начал вести дневник, и эти записи были, пожалуй, замечательней, чем его дневник 1813 года. Подобно солнцу Греции, ум Байрона так живо освещал предметы и чувства, что их контуры выступали с неумолимой четкостью. Он описывал их такими, какими видел, и так же мало допускал лжи относительно себя, как и относительно других, придавая событиям и людям вид естественных явлений, равных перед лицом его скуки. Он отмечал каждую минуту своего существования со странным чувством необходимости отмечать все, что его касалось:
«Обедал около шести часов. Кормил двух котов, сокола и ворона. Читал «Историю Греции» Митфорда, «Отступление десяти тысяч» Ксенофонта. Потом писал вот до этого времени — до без шести минут восемь».
Дневник полон очаровательной шекспировской причудливости, которая проистекала от того, что Байрон, подобно елизаветинским шутам, переходил неожиданно от лирической строфы к шутке, от мировой республики к здоровью своего ворона.
«Сидел дома все утро — смотрел на огонь. Спрашивал себя, когда же придет почта… Написал за полчаса пять писем, все короткие и дикие. Слышу коляску, спрашиваю пальто и пистолеты, как всегда — необходимые атрибуты. На улице холодно — коляска открытая, а жители диковаты и — воспламенены политикой. Прекрасная раса, впрочем, — чудный материал, из которого вырастет нация. Часы звонят, и я отправляюсь изъявлять свою любовь. Довольно опасно, но не неприятно. Кстати, не забыть поставить сегодня новую ширму. Она довольно-таки древняя, но все будет в порядке после небольшого ремонта. Оттепель продолжается. Надеюсь, завтра можно поехать верхом…
Девять минут двенадцатого. Вернулся от графини Гвиччиоли, урожденной Гамба. Говорили об Италии, патриотизме, Альфьери, госпоже Альбани и прочих мудреных предметах. Еще о Саллюстиевом «Заговоре Каталины» и «Югуртинской войне». В девять часов пришел её брат, граф Пьетро, в десять отец, граф Руджиеро. Говорили о различных способах войны, о фехтовании на саблях в Венгрии и Шотландии. Решили, что восстание начнется 7 или 8 марта; дата внушает доверие, если бы ранее не было решено, что восстание будет в октябре 1820…
Вернулся. Опять читал «Десять тысяч». Иду спать.
6 января 1821. Туман — оттепель — дождь — грязь. Верхом ехать невозможно…
В восемь отправился со своим обычным визитом. Слышал немного музыки — люблю музыку…
Думал о положении женщин у древних греков — довольно удобно. Их положение сейчас — этот остаток варварства рыцарских и феодальных времен — искусственно, неестественно. Они должны заниматься домом — их нужно хорошо кормить и одевать, но не давать вмешиваться в общественную жизнь. Воспитывать в религии, но не давать им читать ни поэзии, ни политики — только душеспасительные и поваренные книги. Музыка — рисование — танцы — ну, немного садоводства и земледелия время от времени. В Эпире я видел, как они мостили дороги, и очень хорошо. Почему бы и нет — все равно что косить и доить!
Читать дальше