Двух бутылок оказалось достаточно, чтобы установить дружеские отношения с кем-то из сотрудников музея и получить разрешение на обмен советской пленки на импортную — в порядке «шефской помощи комсомольской организации Донбасса». «Башни стражи», отпечатанные через пленку из Музея Ленина, вышли отличными по качеству.
По делу Ададуров шел не один, у него был подельник Виктор Незнанов, но, по Толиным словам, вел он себя на следствии плохо — по его показаниям Толя и попал в тюрьму. Чекисты обвиняли Незнанова в авторстве нескольких религиозных книг, и, чтобы отвести обвинения от себя, Незнанов дал показания, что автором двух из них является Ададуров (это было правдой). Так в деле Ададурова история Иуды и Иисуса, меня и Зубахина повторялась — как и в каждом втором из диссидентских дел.
Наш четвертый сокамерник был заведующим гаражом, севшим за взятки с водителей. Как и большинство «хозяйственников», это был неприятный тип, внешне похожий на унтера Пришибеева, каким его рисуют в собраниях сочинений Чехова: низенький, стриженный ежиком и тупой. Он большей частью молчал, злобно зыркал глазками, конечно, жаловался на то, что «все берут, а посадили меня», и переживал за свой грядущий срок. Это был еще один персонаж из камеры № 76, разве что без чина.
Ададуров был своего рода разрушителем стереотипов о Свидетелях Иеговы. Он не занимался проповедями, не переводил в них любой разговор, наконец, он даже курил. Впрочем, мы прошлись с ним и по окраинам теологии. Однажды он сказал:
— Не понимаю, как академик Сахаров, делающий столько добра, остается атеистом?
Я высказал ему концепцию, которую сам тогда исповедовал. Следование принципам Справедливости, Истины и Красоты не требует вмешательства Бога, поскольку они существуют самодостаточно в морали. Исполнение этих принципов в жизни — тоже своего рода религиозное служение. Недаром Глеб Успенский писал о «народной интеллигенции», и критериями были не образованность и религиозность, а жизнь в соответствии с твердыми моральными установками.
Позднее я понял, что свой ответ просто подогнал. Каждый человек имеет свою версию морали, так что если и существуют Справедливость, Истина и Красота как императивы, то они должны иметь иной источник. Совсем не уверен, что, окажись Кант в камере на челябинской экспертизе, он был бы стоек в защите категорического императива, скопированного из Евангелия. Именно в Челябинске во мне что-то начало ломаться. Я впервые полностью понял правоту Варлама Шаламова, который считал ГУЛАГ абсолютным злом и утверждал, что он убивает веру в людей.
В Челябинске каждую ночь я наблюдал, как здоровый психопат избивает больного мальчишку. Я мог бы остановить его сразу, однако не делал этого и вмешивался, только если психопат уже переходил грань. С другой стороны, прекрати я эти еженощные избиения — нам предстояла бы бессонная ночь под нечеловеческие вопли.
Тогда я понял, что именно имел Шаламов в виду. Вера в доброту людей исчезает не оттого, что в тюрьме приходится постоянно видеть жестокость, проявляемую другими. Страшно оттого, что эту жестокость ты обнаруживаешь в себе.
Соседство с Ададуровым, теплая весна, ну и просто условия в Бутырке сделали две недели пребывания там вполне приятными — особенно по контрасту с челябинским адом. В камере меня поразили сразу несколько вещей. Например, кран с горячей водой — так что можно было стираться не только в бане. Впрочем, можно было просто отдать вещи в стирку — и, как в отеле, на другой день их приносили уже чистыми и проглаженными.
Удивило настоящее зеркало, вмурованное в плитку над раковиной. Впервые за многие месяцы можно было посмотреть на себя — пусть вид и не радовал. В отличие от других тюрем, пол в камере Бутырки был выложен плиткой, что избавляло от сырости и пыли.
Наконец, целым шоком стало отсутствие толчка — вместо него в камере стоял настоящий унитаз. Впрочем, не совсем настоящий — без сиденья.
Кроме наседки, камера Бутырки № 234 была, по всей видимости, оборудована и микрофонами — и по этой причине стала «диссидентской». Еще в 1973 году в той же камере сидел еврейский отказник художник Леонид Ламм. Он оставит несколько точных зарисовок интерьера, но жаль, что не написал натюрмортов с тюремной кормежкой — по ним можно было бы прочувствовать вкус бутырской еды.
Питание в Бутырке тоже было на пять, разве что хлеб оказался настолько кислым, что после него неизбежно пучило живот. (Как ни смешно, но до сих пор в Бутырке пекут такой же дрянной хлеб — несмотря на бесчисленные жалобы как зэков, так и наблюдательных комиссий. Могут меняться политические режимы, но тюремные условия в России остаются почти прежними.) Прочая бутырская еда мало чем отличалась от той, которую готовили в советских столовых. Насчет бутырского рассольника мы с Ададуровым даже шутили, что его можно подавать и в ресторанах. Развили идею до того, что при тюрьме можно открыть тематический ресторан, где официанты в брюках МВД, с лампасами, будут разносить рассольник в алюминиевых мисках. Сейчас где-то рядом с Бутыркой, действительно, существует «Бутырка-бар» — сидя в тюрьме, мы предсказали его появление на двадцать лет раньше.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
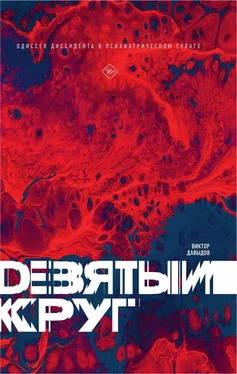




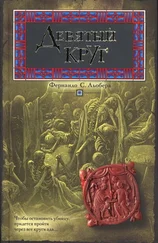



![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/422789/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres-thumb.webp)


