По газетам определил, что обитателей вынули из камеры только сегодня. Лежавшая на столе газета была сегодняшнего числа. На ее полях вились какие-то бессмысленные узоры карандашом, и там же кто-то нарисовал портрет-скетч. Лицо с длинными волосами, прямой пробор, борода. Рисунок был довольно точен — это был Борис Зубахин.
На этом все встало на свои места. Камера 47 была камерой для «клиентов» КГБ. Ранее тут сидел Зубахин, где-то тут должны были быть и жучки. Оставалось только выяснить, с кем я должен был разговаривать, чтобы жучки могли что-то записать.
Ждать пришлось недолго.
Не прошло и часа, как дверь открылась и через нее, сильно хромая, проковылял новый заключенный. Внешне он был похож на дикобраза — разве что с более острым носом. Это был немолодой человек, почти старик, в помятом костюме и с теплым пальто подмышкой. Кроме пальто, он держал в руках еще два довольно больших мешка. Сходство со зверем происходило из-за жестких и необычно длинных для тюрьмы волос, зачесанных назад.
Он глянул на меня недобрым взором, что-то буркнул вместо приветствия и уселся на шконку, выставив несгибаюшуюся ногу вперед. Ни слова не говоря, разложил свои мешки и стал перебирать содержимое — большей частью еду. Потом уложил мешок с колбасой и маслом на подоконник, а сахар-печенье остались во втором. Его он положил себе под подушку — видимо, опасаясь, что я ночью могу что-нибудь украсть.
Только после этого он вперил в меня неприятный взгляд — который сразу напомнил земноводные глаза чекистов — и спросил:
— За что?
— Статья 190-1.
— А-а, — знающе протянул хромой. — Значит, диссидент?
— Диссидент, — ответил я и, чтобы не продолжать разговора, закрылся на шконке бушлатом с головой, в камере вообще-то было прохладно. Настроение было безвозвратно испорчено.
Хромой, однако, не унимался, он был явно разозлен чем-то — видимо, как раз переводом в эту камеру — и, наверное, считал, что я имею к его неприятностям отношение:
— Диссидентов развелось. И чего вы все мутите, что от вас простым людям только неприятности? Вы вообще чего хотите?
— Свободы.
— Свободы, на хрен? Ну, вот она тебе — твоя свобода: сиди теперь здесь и жри казенную баланду. На это я уже отвечать не стал.
— Пааадъем! — стук металла о дверь. — Пааадъем, быстро!
Где я? — вопрос, который уже который день задаю себе спросонья.
В тюрьме — где еще?
В жестком режиме тюрьмы было свое очарование монастырского устава, и временами казалось, что в монастырской келье я и нахожусь — этого впечатления не портили даже решетки, тем более что в русской истории монастыри и тюрьмы неоднократно менялись местами.
Ежедневная рутина, казалось, словно скрижаль, красовалась на стене. На ней висели «Правила внутреннего распорядка». Каждый день в шесть утра динамик в нише над дверью взрывался грохотом, сигналя подъем. Он играл аккорды государственного гимна — и, думаю, каждый из миллионов советских зэков, кого годами будили эти звуки, уже никогда не мог слушать их без ненависти. Гимн вытаскивал из свободного мира снов в мир несвободы, и контраст был слишком силен, чтобы сердце мгновенно не сжималось от боли. Холод камеры, решетки, опостылевший свет негасимой лампочки под потолком, сбившиеся ватные внутренности тонкого матраса. Таково было начало тюремного дня — и не было утра, когда в этом мире хотелось бы просыпаться.
Хорошо, что «Подъем!» еще ничего не означало, достаточно было только накрыть постель одеялом и дальше можно было, укрывшись бушлатом, лечь поверх и досматривать сон. В половине седьмого все же требовалось встать — раздавали пайку с сахаром и чай. В семь в камеру подавали скудный завтрак, обычно кашу из сечки или «уху» — жиденький рыбный суп с ложкой крупы на донышке.
В восемь происходила проверка. Зная, что я сидел один, дежурный по корпусу — корпусной — в камеру не заходил, только открывал волчок. Я же рапортовал: «Один», — и корпусной убегал куда-то дальше.
Исключение составлял только Мальковский — почему-то в свое дежурство ДПНСИ он брал эту работу на себя. Как и положено киборгу, он выполнял все свои служебные формальности с точностью до запятой. Когда он первый раз вошел в камеру, то от удивления я даже встал — как, собственно, это и предписывается делать зэкам при появлении в камере начальства. Позднее мы пришли с Мальковским к компромиссу: я лишь приподнимался на шконке, как бы делая вид, что встаю, — и в этом движении было достаточно уважения, чтобы подполковнику было не на что обижаться. Он же в свою очередь только приказывал открыть камеру и считал меня с порога вслух: «Один», — уже не заходя внутрь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
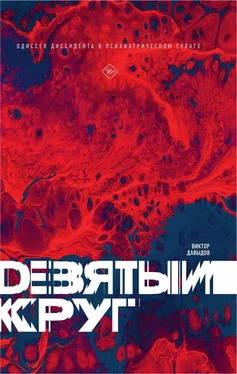




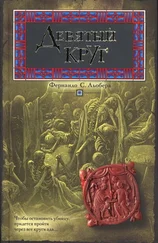



![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/422789/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres-thumb.webp)


