Их разговоры надо было переводить с матерного на русский, но они описывали бунт в колонии немного иначе, чем передал мент. Бунт начался с того, что козлы — заключенные, сотрудничающие с администрацией, — жестоко избили кого-то из парней. Козлы делали так постоянно — как я понял, дисциплина в колонии держалась именно на избиениях, а не на карцерах и прочих воспитательных мерах. Так что бунт был случаен и, как всякий русский бунт, тоже бессмыслен.
Бунтовщики сожгли оперчасть, ограбили санчасть, где поели все, что хотя бы по названию напоминало наркотики. После чего перед ними встал вопрос, заданный еще русской классической литературой: «Что делать?»
Ждать солдат из внутренних войск не хотелось, но и бежать было некуда: Рождествено стоит на острове среди Волги, лед в это время еще не лег. Тем не менее большинство побежало — резонно рассудив, что пойманных в зоне бить будут сильнее.
Один из эпизодов бунта был довольно пикантен. Ворвавшись в санчасть, малолетки обнаружили там женщину-врача. Можно догадаться, что промелькнуло у нее в голове, когда она оказалась одна лицом к лицу с вооруженными дрынами и озверевшими от насилия парнями. Как минимум решила, что сейчас ее всей колонией изнасилуют и потом расчленят.
Ничего подобного не произошло.
Малолетки деликатно взяли женщину под охрану и провели ее до вахты. В этом они проявили себя большими джентльменами, чем охрана, которая бросила женщину, оставив ее одну среди нескольких сотен уголовников.
Не знаю, что действительно было в их головах — и вряд ли что-то хорошее, — но над всеми висел зэковский закон, один из пунктов которого гласил: лагерный медицинский персонал трогать нельзя. За нарушение этого правила им пришлось бы потом жестоко расплачиваться — собственной задницей.
Как оказалось, зэковский закон гуманизировался параллельно со смягчением государственного режима. При Сталине лепила — лагерный врач — мог запросто получить от уголовников топором по голове.
В остальном все было верно. Ломкими подростковыми голосами малолетки хвалились, кто дольше всех бегал от ментов и кто больше съел колес — таблеток — из лагерной аптеки.
В моей камере по всем признакам тоже совсем недавно сидели малолетки. Об этом свидетельствовала свежая надпись-афоризм, сделанная на нарах карандашом: «Тюрьма не школа, прАкурор не учитель». «А жаль», — подумал я про себя. Осмотрев внимательно щели в нарах, нашел и сам карандаш, вернее, короткий его огрызок — и аккуратно спрятал, как ценность, в бушлат.
Довольно поздно вечером неожиданно хлопнула кормушка. Я было подумал, что мент принес мыло и зубную щетку, но это оказалась передача от мамы. Список продуктов, написанный ее мелким преподавательским подчерком, выглядел в этом интерьере странновато — примерно как коллекция яиц Фаберже, выставленная на экспозицию в сибирской деревне. В передаче был батон белого хлеба, пряники, болгарские сигареты с фильтром, копченая колбаса, маргарин — масло в Самаре уже было трудно достать. Копченая колбаса, впрочем, тоже не продавалась — мама явно мобилизовала какие-то свои знакомства.
На следующий день я решил продолжить борьбу за мыло и добиваться своего любыми способами. Слой накопившейся грязи причинял массу неудобств. Одно ощущение было противным, а приходилось, как прокаженному, еще и чесаться. Вкус во рту был непереносимым настолько, что я даже попытался почистить зубы пальцем, соскребя со стены известку вместо зубного порошка. (В результате во рту остался еще и едкий вкус известки.)
Иновлоцкий меня, конечно, обманул и не отдал сумку с мылом и прочим. Оставалось стучаться к местному начальству. Когда переговоры с коридорным ментом зашли в обозначенный крутым матом тупик, я написал жалобу начальнику КПЗ.
Процедура эта заняла целый день и состояла из двух актов. В первом нужно было получить от коридорного мента бумагу и карандаш, во втором — заставить все это забрать назад. Оба проходили по одному сценарию, который включал в себя долгие зовы, ругань и стук в дверь. Когда руке становилось больно стучать, я разворачивался и молотил по двери каблуком. Это работало, пусть и не сразу. Сначала приходилось выслушивать: «Хрен тебе, а не заявление писать, писатель хренов», а также последовательно обещания разбить мне лоб об стену, отбить печень и переломать ребра.
Часа в четыре, когда пятка от стука уже начала ощутимо болеть, я все же добился своего — получил бумагу и половинку карандаша.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
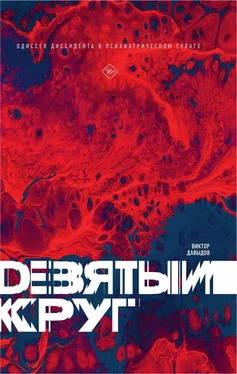




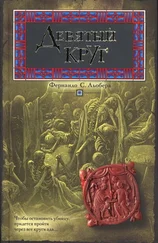



![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/422789/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres-thumb.webp)


