Ум находился в состоянии летаргии. Думать, надеяться было бессмысленно — жизнь не зависела ни от мыслей, ни от надежд. Все стало безразлично. По письменным дням я смотрел на фотографии Любани, что-то писал ей — но как будто в другую галактику, и не мог описать своего состояния и жизни — за неимением оной. А также понимая, что каждое слово будет прочтено цензором — так что писал большей частью для Кисленко.
Еще совсем недавно жить без надежды и цели выглядело как самоубийство. Оказалось, что и так можно жить — только непонятно зачем. «Жить можно равнодушием», — так определил это Шаламов.
Прочтя некогда «Постороннего» Альбера Камю, я решил, что, если автор чувствовал хоть одну десятую долю того, что ощущал и его герой, месье Мерсо, он должен был бы совершить самоубийство. Однако сейчас я находился в том же состоянии безразличия, что и Мерсо. Не было смысла писать, не было смысла думать, оценивать какие-то не существующие в этой галактике явления — вроде событий в Польше.
Можно было повторить Свердловск и перерезать вены. Однако жизнь здесь была столь похожа на посмертное существование, что и самоубийство выглядело нелепо.
Хуже всего, что ни одного дня я не мог вовремя заснуть. Часами ворочался на койке после отбоя — пытаясь найти для раздумий хоть какую-нибудь приятную тему перед сном. Еще в тюрьме я мечтал о свободе и возвращении к Любане — ничего из этого больше не трогало душу.
Думать о свободе было невыносимо. И точно так же, как зэки, которые не могли понять, как снова жить на свободе, и срывались — я тоже уже не понимал, как делать выбор. Ибо в жизни в Шестом отделении выбора не было. Здесь все зависело от приказов, и ничего — от тебя.
Так, прокрутившись на койке несколько часов, слушая нечленораздельные возгласы спавшего Радыгина, я засыпал, чтобы снова проснуться невыспавшимся вне времени и пространства — и автоматически, по приказам, двигаться в следующий день.
День пятый
И ноября 1982 года
Шестое отделение Благовещенской СПБ
По отделению второй день ходит новая хохма:
— Слыхал, Брежнев умер?
— Да нет, я видел его в курилке, вроде жив…
Герой шутки — рыжий щербатый урка Бережной по кличке Брежнев — бродит, довольный своей неожиданной популярностью, улыбаясь золотой фиксой.
Брежнев мог бы работать Рыжим в цирке без грима. Ему было за сорок — курносый, веснушчатый, с волосами цвета медной проволоки, вся рожа покрыта морщинами, заработанными за полжизни по лагерям. Сидел он по тяжелым статьям, в этот раз за разбой, жил по понятиям, за что его уважали. Перед медсестрами Брежнев прикидывался несчастненьким, умел найти подход к санитарам и обычно спокойно оставлял под языком аминазин, который получал на ночь. Дури за ним особо не наблюдалось, хотя с головой у него что-то и было неладно. Иногда Брежнев взрывался без повода либо мучился депрессией и тогда лежал сутками на койке, закрывшись с головой одеялом.
Судебный срок Брежнева давно кончился, считалось, что если не в следующую комиссию, так через одну он отправится на волю. Последний раз Брежнев дышал вольным воздухом лет десять назад.
В отличие от благовещенского Брежнева, дела московского Брежнева были плохи, вернее, дел у него уже не было никаких.
Чуть больше месяца назад мы слушали по радио его речь из Баку, где Генсек вручал Азербайджану орден Ленина. Он, как обычно, невнятно мямлил свои «сиськи-масиськи», как вдруг оговорился точно «по Фрейду». «Под руководством Коммунистической партии советский Афганистан достиг огромных успехов…» На этом радио затихло, послышалось шуршание бумаг, потом раздалось с необычной интонацией извинения: «Это не моя вина, товарищи… Придется читать сначала». И действительно, повторил абзац заново — уже все-таки про Азербайджан.
Состояние ходячего овоща, в который превратился глава сверхдержавы, лучше всего описывает случай, происшедший с Брежневым во МХАТе на премьере какой-то революционной пьесы. Там Генсек принял актера, игравшего Арманда Хаммера, за живого Хаммера и несколько раз порывался подойти с ним поздороваться.
В таком состоянии Брежнев, конечно, не был способен к принятию решений — и Андропов «серым кардиналом» правил за его спиной, ограниченный во власти разве что угнездившимися в креслах другими динозаврами из Политбюро. Андропов напрямую завербовал лечащего врача Брежнева, академика Евгения Чазова, и регулярно встречался с ним на конспиративной квартире в Москве. Так что первым из членов Политбюро о смерти Брежнева узнал именно Андропов. Срочно вызванный на дачу к Брежневу агент — доктор Чазов — сразу же поставил в известность, конечно, своего «куратора».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
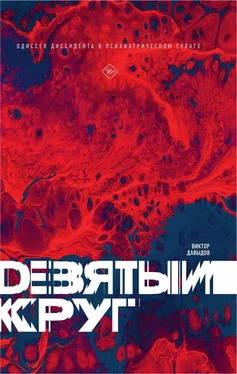




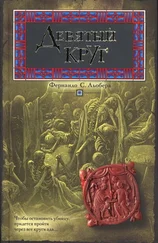



![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/422789/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres-thumb.webp)


