Я с радостью согласился, на чем инцидент вроде бы был исчерпан — хотя, конечно, и был записан в экспертное дело. Формулировка «ваши друзья» указывала на то, что Ландау понимал, с кем имеет дело, и не желал огласки.
В те же дни я получил передачу от мамы. Главной ценностью в передаче были яблоки — передавать их в тюрьму было запрещено, но разрешалось в Сербский. (В тюрьме же мы получали витамины только в чесноке и репчатом луке, зэки доходили до того, что ели его даже без хлеба.) Остальное было чистой роскошью — питание в Сербском было достаточно хорошим.
На другую неделю я снова получил передачу, а вскоре понял, что мама осталась в Москве не только для передач. Она встретилась и поговорила с Герасимовой.
Это я понял из ее вопросов: они вдруг стали касаться таких тем, которые знали только в семье. И все они были неприятны. Так, пришлось объяснять инцидент, случившийся в 12 лет, когда я решил поставить на себе медицинский эксперимент. Узнав, что существуют такие таблетки, от которых можно заснуть, я нашел у мамы пузырек со сладкими драже довольно безобидного экстракта белладонны и проглотил сразу двадцать штук. Проснулся я через сутки, в ногах кровати сидел врач. Через двенадцать лет пришлось доказывать Герасимовой, что это не было попыткой суицида — хотя по ее реакции я и догадался, что объяснения тщетны.
Пришлось объяснять и более поздний случай, произошедший, когда мне было 19 лет. Тогда, после ссоры с девушкой я отправился искать ее на флэт, где оказалась и пара хиппи. Девушку я не нашел, хиппи глотали какие-то таблетки, запивая их портвейном. Предложили и мне пару таблеток какого-то антидепрессанта, уверив, что буду чувствовать себя лучше. Так и произошло, но, на мою беду, кто-то потом принес еще несколько бутылок вина, в итоге я очнулся в больнице.
Оттуда я сбежал уже вечером — вместе с девушкой, — но в Институте Сербского все это снова всплыло как попытка суицида, и тоже пришлось объяснять, что же действительно произошло.
Вопросы Герасимовой привели меня в крайне подавленное состояние. Было понятно, что мама играет на руку психиатрам, рассчитывая, что они признают меня невменяемым и отправят в психбольницу вместо зоны. Про существование СПБ родители как будто не догадывались.
Чуть позже некоторые вопросы Герасимовой начали ставить меня в тупик.
— Как вы видите свое будущее? — спрашивала она.
— В довольно черном свете, — честно отвечал я.
Неожиданно Герасимова вскинула голову и пристально посмотрела на меня:
— Вы видите его ровным или с оттенками?
«К чему это? Пишет мне параноидную форму шизофрении со зрительными галлюцинациями?» — недоумевал я.
Изменился и тон, с каким на обходах разговаривал Ландау. В его обращении появились нотки снисходительности. Ничего хорошего это не предвещало. Насторожила одна фраза, сказанная в ответ на какую-то мелкую жалобу. «Все проходит», — процитировал Ландау Экклезиаста, и почему-то это прозвучало угрожающе.
Изменение ситуации подействовало на меня очень плохо. Стоять против Иновлоцкого или Соколова, имея тыл в лице Любани и диссидентов, было еще не сложно. Когда вдруг в этой игре обнаруживаешь, что против тебя играют и родители, то воля неизбежно слабеет. Я потерял сон, спал днем, сонным меня вытягивала на беседы Герасимова, я отвечал ей, почти не думая. Была мысль вообще отказаться от бесед, но перевешивало понимание того, что это, как и всякое резкое движение в Институте Сербского, будет истолковано против меня.
Экспертиза затягивалась — вместо обычных четырех недель я сидел в институте восьмую неделю.
Уже зная, что происходило вне тюремных стен, я смог реконструировать последовательность событий. В апреле челябинские психиатры получили письмо из Рабочей комиссии по расследованию злоупотреблений психиатрией, подписанное Леонардом Терновским. Как опытные бюрократы, психиатры догадались, что коли в дело вовлечены московские правозащитники, то во все это лучше не ввязываться, разумнее умыть руки и скинуть решение на Институт Сербского — что и сделали. Поэтому там даже не беседовали со мной.
В мае 1980 года все было иначе. Терновский был уже арестован, Рабочая комиссия находилась в полуживом состоянии, в ней остались только два человека, и не лучшего качества — Ирина Гривнина и Феликс Серебров. Серебров будет арестован в начале следующего года, «покается» на суде, но это ему не поможет — он получит четыре года лагеря и ссылку. (В зоне Серебров окончательно сломается — его вывезут в Горький на процесс Елены Боннэр, где он будет читать лживые показания, написанные под диктовку. Но и это не облегчит его судьбу, и свой срок он отсидит полностью, вернувшись из ссылки уже в «горбачевскую амнистию».)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
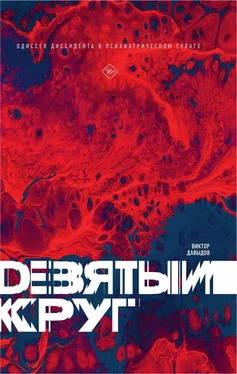




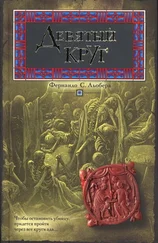



![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/422789/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres-thumb.webp)


