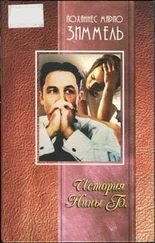К примеру, был тавда начальникём ГубГПУ Розинблюм Исак… отчество забывается, и трудное… И свяшшыки у яво одне евреи: Галкин Исаак, тоже Мосеич, и Познер… И его, как Галкина и Розинблюма, Исаком звали… А комендантом Читинского ГПУ был Глозман. Этот — Илья Ильич. Просто. И он, падло, гонял по губернии с Особой кавалерийской бригадой карателей. Был, ясно, и взвод комендантский, а по правде — рота. Так нет жа! Он людей самолично стрелял! И моех стариков он же сам всех и позастреливал, — я многех свидетелев отыскал, да он и в бумагах не постеснялси о том записать, — в протоколах. И отца моего он, Глозман, убил…
Ну, и прочих…
А ведь прежде, когда начальником был раймилиции, к отцу моему приходил. Беседовал. Чуть ни кажин день сало уносил, да мёд, да масло…
Начальником транспортной части был Басюлис. Навроде латыш. Тольки пошто и он — Исаак? Да ещё и Давыдович? Еврей, конечно. Каков тавда транспорт был — мне неизвестна. Но Басюлиса помню, как он нас, пацанов, по морде арапником сёк, ковда с верховым конвоем гнал народ пешим сто сорок верстов до станции. Гнал тоже самолично. И всё искал, кому морду рассечь… Так. Теперь будет этап. Был начальником эшелона Скляр. Еврей тоже: Макс Израилич. А гнали этап в разбитых «краснухах» спод скота. Зимою. В самыя морозы. До смерти этап тот не забуду, даже кавда дело моё фронтовое — десант на танках — забудется. Десант плохо уже помнится. А этап тот — не–е–ет! Вот, начальником эшелона был Скляр. Мало ему, что он, падло, людям ни есть, ни воды не давал. Кричал: — Голод в стране! Так не вам, собакам казацким, еду скармливать! — Кричали с вагонов: Мороз жа! А все раздетыя вами: одёжу да обутки вы жа поотымали! Отвечал, сука: — *** с вами со всеми! Быстрее подохнете!… Он, падла, кавда помирал кто в вагоне, — замерзал, или с голоду, — и конвой звали — вынести, он по тому вагону из маузера палил по краях, чтоб по тем попасть, кто уже с нар не встаёт, — по нас, по пацанах! Сколь же он, нехристь, народу тавда положил, стрелямши! И ведь и моех братиков — Павлика и Пантелея — он тавда сподранил и скалечил на век. До времени оне живыми жили. Да жизня иха была имям мукою, как чуток подросли — один без ноги, другой позвонками увечный… Инвалиды оба нерабочия… Как имям жить, эслиф бы ишшо и меня поломали? Дык я што, забыть oб тем должон? Не человек я? Животная какая?!… Кабан — и тот не забываат!
Он помолчал. Пальцы его тряслись, просыпали табак мимо свёрнутой «козьей ножки»… Потом затянулся дымом, глаза прикрыв…
— Ты с Оттою поговори–ка. Пуссь расскажеть как пацаном оне с австрийцем пленным обозничали. И чего навидалися, кавда в девятнадцатым и в двадцатым годе по Украине ездили… Поспрашивай. Тибе тоё знать — лишним не будеть, еврею… Об евреех.
… Тогда, в ссылке, с «Оттою» не говорил. Говорил, когда уже внуки его любимые от меня выросли… Спросил об обозничании по Югу России. И о том, что тогда пережили, и что увидели собственными глазами Отто Юлиусович и однорукий Мартин Тринкман, решился я рассказать Миру лишь в конце семидесятых годов в повести «Густав и Катерина» в МОСКВЕ…. Осмелился с опозданием больше чем на полвека — через 55 лет после того, как с Высокого Амвона набатом грядущего Возмездия прогремел голос Мартина Тринкмана.
Где–то, — и не раз, — читал: «… Свидетельство епископа было чекою готовой взорваться «гранаты» ненависти к евреям. Он выдернул её. И она рванула!…». А до того — голос мамы прозвучал — тоже свидетеля — доктора Фани — на Общеевропейском сборище медиков в Нижнесаксонском Мюнстере…
… Я был только что не убит рассказом Тычкина. Я‑то знал: это правда! Тычкины не врут! Не учёные врать. Какие бы ни были первопричины звериной жестокости моих соплеменников — они звери. Ошарашенный, я не готов был спорить с Аркашей. Прежде всего потому, что это был подвижник, человек, обладавший глубоко укоренившимся в его душе чувством активного сострадания к терпящим бедствие. Но этого мало, — он был по–умному бесстрашным человеком, который, не задумываясь, подставлял себя, спасая преследуемых людей. И если он не любит евреев, убивших его стариков, покалечивших братьев и загнавших его семью в омут ссылки — его право не только ненавидеть их, но и поступать с ними адекватно! Это жестоко? Но собственная наша жестокость — она известна. И вколачивалась она в нас Книгой, — нашим тысячелетия твердимым Учебником, обязательным и всенепременным еженедельным чтивом, научающим нас жить и поступать. На живых примерах. На примерах, например, подвигов Иисуса Навина: «И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Лахиса к Еглону. И предал Яхве Лахис в руки Израиля… И взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и всё дышущее, что находилось в нём…. И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Еглона к Хеврону… И никого не оставил, кто уцелел бы» /Книга Иисуса Навина, X, 28–40/.
Читать дальше