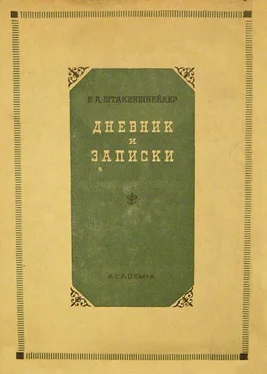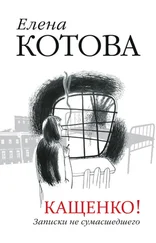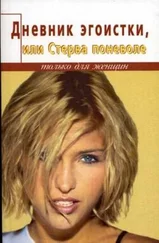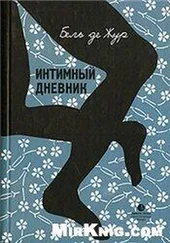Когда убрали чай, все разбрелись. Стало живее и шумнее. Я все, точно связанная, сидела возле своей черноглазой соседки и, должно быть, порядочно надоела ей, но куда было меня девать? Наконец, к ней подсел Рамазанов [6] Рамазанов Николай Александрович (1815–1867), художник и скульптор. Благодаря живости характера и разнообразию дарований был заметным лицом в салоне Толстых; по словам Е. Ф. Юнге, его пение было полно энергии и выразительности: «сколько было в нем неподдельной веселости, юмору и искренности; казалось, что вся душа его была на ладоньке».
. Они разговорились, но я не вслушивалась в их разговор. Вдруг оба они обратились ко мне, чтоб я рассудила их. Оказалось, что он снял со своей цепочки какой-то брелок, который она, вероятно, похвалила, и преподнес ей. Она отказалась, и они заспорили. К счастию, в эту минуту раздался голос Лоде, музыканта, и избавил меня от роли судьи. Он пел:
Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.
Вдохновлен его отвагой,
И француз за ним туда ж,
Машет дядюшкиной шпагой
И кричит: allons, courage!
Полно, братцы! На смех свету
Не останьтесь в дураках.
Мы видали шпагу эту
И не в этаких руках!
Если дядюшка бесславно
Из Руси вернулся вспять,
Так племяннику подавно
И вдали несдобровать…
и т. д.
Слова-неизвестного автора, музыка — Вильбоа [7] Как это часто бывает, вещи, предназначавшиеся для пения, ассоциируются гораздо более с именем композитора, чем с автором текста. Зачастую на нотах не обозначается, чьи слова. Вильбоа был нередким посетителем Толстых и выступал не только в роли композитора, но и певца. Некоторые свои пьесы он посвящал гр. Ф. П. Толстому. Исполнение его нового романса («Вот в воинственном азарте») на вечере у Толстых было в порядке вещей, но текст вносил в мирную обстановку артистического салона тему «войны и политики».
. Имя автора так и осталось неизвестным [8] Стихи «Вот в воинственном азарте», которые «пелись и читались повсюду», появились впервые в «Северной Пчеле» (1854, № 37) под заглавием «На нынешнюю войну» и без подписи автора. Потом были перепечатаны Путиловым в его «Сборнике сведений о восточной войне». Особенно популярны были и долго не забывались четыре первых стиха, посвященных Пальмерстону. Автором этих стихов был молодой поэт , в том же году и умерший (тридцати одного года от роду), Василии Петрович Алферьев (1823–1854). За эти патриотические стихи он получил награду от императора, что, вероятно, известно было Толстым, в доме которых Алферьев бывал и должен был встречаться там с автором музыки, Вильбоа. Для Толстых вряд ли могло быть тайной, кто автор стихотворения.
. Стихи не были разрешены к печати [9] Это неверно, как видно из предыдущего примечания.
, но пелись и читались повсюду, потом забылись.
На следующее воскресенье встретили мы у Толстых чету Глинок, Федора Николаевича и Авдотью Павловну. «Жребий Глинок», как выражался сам Федор Николаевич:
Из двух неравных половинок
Бог нечто целое склеил,
Сказал, дохнул, благословил,
И это вышел — жребий Глинок.
Федор Николаевич в то время, как мама мне на него указывала, вынимал пальцами из чашки чая размокшие куски хлеба; в то же время он дергал себя за бакены и, говоря что-то с жаром, так размахивал руками, что только большие перстни его мелькали и ордена на шее и на фраке тряслись.
— Это тот Глинка, что написал «Плач плененных иудеев»; он был в числе декабристов и только недавно получил разрешение жить в Петербурге, — говорила мама, — а вот и жена его.
И мама указала на сухощавую седую даму, с отпечатком на лице бывшей красоты и непрошедшей строгости. Но меня занимал маленький черненький старичок [10] Федору Николаевичу Глинке было тогда под семьдесят, вот почему отсутствие седины так поразило юную Штакеншнейдер. Внимание привлекли также и «кресты на фраке». И через двадцать лет, когда Ф. Н. Глинке было под девяносто, он поражал тем же самым пристрастием к орденам. Об этом свидетельствуют видевшие его в 70-х годах в Твери академики С. П. Глазенап и М. Н. Сперанский.
, что полоскал свои пальцы в чае. «Плач пленных иудеев», декабрист и кресты на фраке никак не совмещались в голове моей в одно понятие, и, глядя на старичка, я подумала: «мама, верно, ошибается: это, верно, не сам он, но родственник того Глинки». Тогда понятия мои о декабристах были чрезвычайно смутны. Самое слово «декабрист» произносилось шопотом; сам Федор Николаевич, кажется, скрывал свое прошлое, как грех юности.
Читать дальше