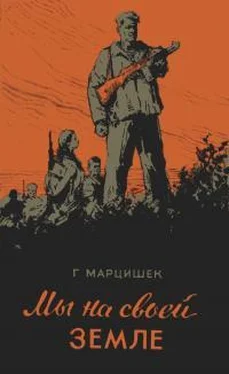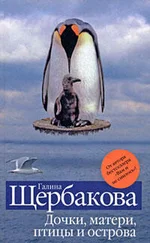Внимательно осмотрев ладную крепкую фигуру Ивана Ивановича, старик одобрительно хмыкнул, потом перевел свой взгляд на меня и на его обветренном круглом лице мелькнула ироническая улыбка, дескать: «Тоже, вояка…»
Стоявший около машины Бадаев оглядывался.
— Где же Тамара Межигурская, — недовольно спрашивал он. — Машину нельзя задерживать.
В это время из правого крыла дома вышли две женщины: одна из них в светло-сером пальто, темноволосая, стройная, прощалась с миловидной блондинкой. Обе горячо расцеловались.
— Тамара, быстрее, — обратился Владимир Александрович к темноволосой женщине.
Проезжая но улице Короленко, машина остановилась возле нашего дома. Из кабины выглянул шофер:
Владимир Александрович велел забрать ваши ценные вещи.
Машину окружили женщины. За юбки многих цеплялись дети. Увидев винтовку в руках Ивана Ивановича, одна из женщин спросила:
— На фронт?
— Да! твердо ответил он, а я подумала:
«Теперь уж ему нечего стыдиться». И вспомнила слова Бадаева: «Скоро и нам найдется дело…
— Неужели сюда пустят оккупантов? — задала вопрос наша соседка.
— Одессу не сдадим, — ответил Иван Иванович.
Мы согласны все вытерпеть, только бы не сдали Одессу, — горячо уверяли женщины.
Поднявшись вместе с ними к себе в квартиру, а отдала им сахар, кое-что из продуктов, одарила детей конфетами, взяла все необходимое и вернулась к машине.
— Успеха фронтовикам! Передавайте им привет от нас! Победы! Победы! — махая руками, дружно кричали женщины вслед уходившей машине.
Возле Хаджибеевского лимана нас нагнала автоколонна, груженная снарядами. Клименко то и дело посматривал на небо, видимо, опасаясь налета стервятников.
Наконец, вдали показалось село, раскинувшееся в глубокой балке.
— Нерубайское. А за ним сразу же фронт, — информировал нас Клименко.
На околице Нерубайского машина завернула в крайний двор, огороженный каменным забором. Посреди двора красноармейцы вручную цепами молотили пшеницу. Влево в углу — коновязь и ясли. Справа — приземистое длинное строение из камня-ракушечника с подслеповатыми окнами. Рядом — пристройки для скота.
Иван Никитович, несмотря на солидный возраст, легко соскочил с машины:
— Идемте, я покажу, где вы будете ночевать, — и ввел нас в дом, разделенный на две половины небольшими сенцами. — До войны это была контора, кроватей тут нет, придется постелить солому.
Я оглянула помещение. Два конторских колченогих стола, пара расшатанных стульев, под стеной большая деревянная скамья — вот и вся меблировка комнаты. На стенах портреты руководителей партии и правительства, у двери доска с устаревшими объявлениями и бачок с водой. Окна глухие, без форточек. Застоявшийся, пропитанный запахом махорки, воздух вызывал тошноту. Не выдержав, я вышла во двор. Начала осматриваться.
Через дорогу от двора, где остановились мы, — обрывистый спуск в глубокую балку, изрезанную входами в каменные шахты — катакомбы. Наверху вокруг балки — домики колхозников и шахтеров, окутанные садами и виноградниками. На высотке в стороне Одессы белеют памятники и кресты Нерубайского кладбища. Западная сторона села опоясана лесопосадкой железной дороги Одесса — Киев, оттуда слышна частая пулеметная стрельба и разрывы снарядов. С фронта и на фронт мимо нашего двора шли машины, проходили колонны красноармейцев, брели в санбат раненые. Измученные упорными тяжелыми боями и зноем, люди присаживались на обочину дороги, просили напиться. Дети и женщины поили их ключевой водой, угощали арбузами и виноградом. В соседнем дворе ковали лошадей. Беспрерывно скрипела дверь хатки, пропуская сновавших взад-вперед красноармейцев и командиров. Со стороны фронта примчалась танкетка. С нее соскочил рослый паренек лет девятнадцати с энергичным, усыпанным веснушками лицом.
— Сашка приехал! Сашка! — донеслись до меня радостные возгласы красноармейцев.
— Гостинцев давайте! Там жарко! Фрицы наседают! — кричал паренек, приглушая мотор танкетки. — Скорее же, скорей!
Захватив «гостинцы», Саша в вихре рыжей мыли снова умчался на передовую.
Позднее я узнала, что комсомолец Саша в последние дни обороны был тяжело ранен, но привел танкетку в нашу воинскую часть и умер на руках товарищей, говоря:
— Ничего… Будут, гады, помнить Сашку. Я хорошо проехался по их тылам.
Ночью меня вызвали. В комнате, куда я вошла, все тонуло в полумраке. Фонарь, стоявший на полу, отбрасывал на стены причудливые тени, отчего комната казалась таинственной и угрюмой. На больших бочках сидели Владимир Александрович Бадаев и Иван Никитович Клименко. Перебирая пальцами бороду, Клименко начал задавать мне вопросы. По многочисленному покашливанию я поняла, что он считает меня изнеженной женщиной. Но тон его голоса потеплел, когда я рассказала о том, что родилась и выросла на Донбассе, сама работала на шахте глейщицей, жила с родными в большой нужде, что родные погибли в деникинщину. Отпуская меня, Бадаев сказал:
Читать дальше