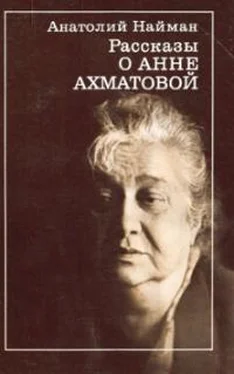Слова «при великолепной памяти» она, конечно же, относила к себе. Она помнила подробности событий шестидесятилетней давности так же отчетливо, как вчерашние, Особенно была у нее развита память на стихи и визуальная — она помнила, например, в каком месте книги, то есть «ближе к концу, вверху правой страницы», расположена фраза, которую она ищет. Как–то раз она прочла новые свои стихи, и сразу вслед за ней я повторил их по памяти; она оценила это; «Формула найдена; читать вём стихи один раз — многовато».
Перед поездкой в Италию, в конпе 1964 года, она по делу заехала к Эренбургу. Во время разговора с хозяевами в комнату вошла дама лет пятидесяти, с выразительным красивым лицом и, склонившись к креслу Ахматовой, звонко проговорила: «Анна Андреевна, как я рада вас видеть!» Ахматова поздоровалась, но видно было, что не узнает. «Вы меня, должно быть, забыли, я Ариадна Эфрон», — сказала дама; оказывается, у Эренбурга в этот день собиралась комиссия по цветаевскому наследию, одним из членов была дочь поэтессы. Когда она вышла, Ахматова сказала: «Я ее, конечно, помню, но как сильно она изменилась». «Да–да», — отозвалась жена Эренбурга и, чтобы затушевать неловкость, вызванную, по ее убеждению, забывчивостью старой Ахматовой, перевела разговор на другую тему. Но Анна Андреевна демонстративно вспомнила подробности и даже дату их последней встречи и повторила настойчиво, что «Аля» очень изменилась с тех пор. Светски–вежливый тон новой фразы, которой с нею соглашались, не устраивал ее, и тогда она сказала: «Это похоже на эпизод, который вспоминает Сухотин об уже стареньком Толстом. Лев Николаевич за обедом обращается к сыну: «Ты куда едешь, Лева?» — «К жене». — «А разве она не здесь?» — «Да нет, она живет в Петербурге». — «А это кто?» — «Это Анночка, ваша внучка, дочь Ильи». — «Вот как. А почему она здесь?» «Да я уж с неделю как приехала», — отвечает та». Когда мы вышли на улицу, Ахматова проговорила: «Делают из меня выжившую из ума старуху. Удивительно, что я еще хоть что–нибудь помню».
Но если при жизии искажалось очевидное, то тем более бессильной чувствовала она себя убедить кого–то через сто лет, что Гитлер не Фейхтвангер. Единственный способ доказать, что дело было так, а не иначе, она видела в своеобразной объективизации показаний, в привлечении к даче показаний хотя бы еще одного свидетеля того, как было дело. Она начинает свои заметки о Мандельштаме фразой: «…И смерть Лозинского каким–то образом оборвала нить моих воспоминаний. Я больше не смею вспоминать что–то, что он уже не может подтвердить…» Это был прием почти юридический: семестр, который она проучилась на юридическом факультете Высших женских курсов в Киеве, дал ей знания по истории права, объяснявшие на языке правосудия трагедию эпохи, квалифицировавшие «новую законность» как беззаконие и отзывавшиеся в ее беседах неожиданным заявлением вроде «я как юрист утверждаю…». Одного свидетеля было недостаточно ни в еврейском суде, ни в римском: «Два свидетеля неотводимых составляют полную улику». Лирический поэт свидетельствует о случившемся с ним и с тем, кто разделил его переживание: с другим человеком, природой, книгой. Природа, книга дают свои свидетельства, и судья–читатель, зная их по опыту непосредственных впечатлений, решает, насколько поэт правдив. Но отношения с возлюбленным, с другом, с ближним — всегда личные, поэт не хочет полагаться на неизвестный ему опыт гипотетического читателя, который будет оценивать его чувства конкретно к Анне Керн, Чаадаеву, Арине Родионовне. Сознательно и инстинктивно поэт ищет партнера, который подтвердил бы его слова, — другого поэта: Сафо — Алкея, Алкей — Сафо. Помимо утверждения правды, то есть правоты, каждого из них это спасает обоих и от своего рода нарциссизма, глядения только в самого себя. Трудно сказать, была ли такая установка у Ахматовой с самого начала или, возникнув в молодые годы непроизвольно, стала затем необходимой, но Гумилев, Шилейко, Недоброво, Анреп, Пунин, как и некоторые другие адресаты ее стихов, были поэтами, В 1914 году Блок мадригалом вызвал ее на стихотворную переписку («Красота страшна, вам скажут» — «Я пришла к поэту в гости»), которую тогда же опубликовал. В самом конце жизни в стихах, примыкающих к «Полночным» и к «Прологу», Ахматова записывает:
Всего страшнее, что две дивных книги
Возникнут и расскажут всем о всем.
В последние годы она складывала в папку, которую назвала «В ста зеркалах», стихи, на протяжении ее жизни ей посвященные, все равно какого качества и кем написанные. Их оказалось несколько сотен, большинство играет роль только «зеркал», так или по–другому ее отражающих, но несколько — это еще и страницы «двух дивных книг»: одну писала она, другую — они. Это вовсе не значит, что ей было безразлично, кто звучал ей, кому звучала она вторым голосом: стихотворения, составляющие циклы «Полночные стихи» и «Пролог», так же как и всякое ее стихотворение, которое описывает отношения «ты и я», «я и он», обращены к конкретному лицу, и она довольно резко высказалась о стихах поэтессы, «написанных двум адресатам сразу», в том смысле, что поэзия не прощает такой безнравственности и мстит за нее унизительными строчками. Но как всякая правда, правда о конкретных двух становится правдой о любых двух; для того же, чтобы стать правдой о конкретных двух, не подверженной сомнениям и предрассудкам, требуется подтверждение второго — круг замыкается.
Читать дальше