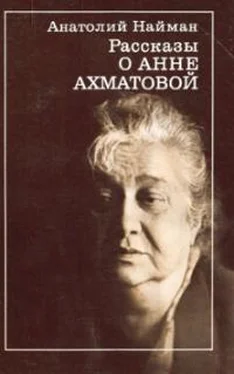В то лето Раневская принесла Ахматовой книгу Качалова–химика о стекле. «Фаина всегда читает не то, что все остальное человечество, — сказала Анна Андреевна. — Я у нее попросила». Возможно, у обеих был специальный интерес к автору, мужу известной с 10‑х годов актрисы Тиме. Через несколько дней мы вышли на прогулку, вернулись, в двери торчала записка, я потом на нее наткнулся, когда перечитывал письма того времени: «А. A. A. Madame — Рабби! Очень досадно — не застала. Очень Вас прошу — пожалуйста, передайте Толе мою мольбу — прицепить к велосипеду книгу «Стекло», и если меня не застанет — пусть бросит в мое логово». Все малые «а» тоже, как у Ахматовой, трогательно перечеркнуты горизонтальной чертой. «Логовом» был номер на первом этаже Дома актеров, в другой раз он мог быть назван «иллюзией императорской жизни» — словцо Раневской из тех, которыми Ахматова широко пользовалась.
Когда–то в Ташкенте она рассказала Раневской свою версию лермонтовской дуэ 1- ли. По–видимому, Лермонтов где–то непозволительным образом отозвался о сестре Мартынова, та была незамужем, отец умер, по дуэльному кодексу того времени (Ахматова его досконально знала из–за Пушкина) за ее честь вступался брат. «Фаина, повторите, как вы тогда придумали», — обратилась она к Раневской. «Если вы будете за Лермонтова, — согласилась та. — Сейчас бы эта ссора выглядела по–другому… Мартынов бы подошел к нему и спросил: „Ты говорил, — она заговорила грубым голосом, почему–то с украинским «г», — за мою сестру, что она б…?"» Слово было произнесено to смаком. «Ну, — в смысле «да, говорил» откликнулась Ахматова за Лермонтова. —
Б…» «„Дай закурить, — сказал бы Мартынов. — Разве такие вещи говорят в больших компаниях? Такие вещи говорят барышне наедине… Теперь без профсоюзного собрания не обойтись"». Ахматова торжествовала, как импресарио, получивший подтверждение, что выбранный им номер — ударный. Игра на пару с Раневской была обречена на провал, но Ахматова исполняла свою роль с такой выразительной неумелостью, что полнота этого антиартистизма становилась вровень с искусством ее партнерши. Мартынов был хозяином положения, Лермонтов — несимпатичен, но неуклюж и тем вызывал жалость.
Это было время нового, послереквиемного, этапа ахматовской неофициальной славы и сопутствующей суеты вокруг ее имени. Она оставалась равнодушна к интересу, который вызывала, к комплиментам и т. д., ко всему, что было ей привычно. Но короткой заметке в какой–нибудь европейской газете неожиданно могла придать особое значение, спрашивать мнение о ней у знакомых, ссылаться на нее при встречах с незнакомыми. «Шведы требуют для меня Нобелевку, — сказала она Раневской и достала из сумочки газетную вырезку. — Вот, в Стокгольме напечатали». «Стокгольм, — произнесла Раневская. — Как провинциально!» Ахматова засмеялась: «Могу показать то же самое из Парижа, если вам больше нравится». «Париж, Нью–Йорк, — продолжала та печально. — Все, все провинция». «Что же не провинция, Фаина?» — тон вопроса был насмешливый: она насмехалась и над Парижем и над серьезностью собеседницы. «Провинциально все, — отозвалась Раневская, не поддаваясь приглашению пошутить. — Все провинциально, кроме Библии».
Ленинградское телевидение устроило вечер памяти Блока. Обратились к Ахматовой, она сказала, что сниматься категорически отказывается, а записать на магнитофон рассказ о нескольких встречах с Блоком согласна. Телевизионщики, по–видимому, решили, что уломают ее на месте, и в условленный день вместо репортера с магнитофоном на Озерной улице Комарова показались два автобуса и несколько легковых автомобилей. Мы увидели их из окна, Ахматова произнесла с отчаянием в голосе: «Я не дамся». Несколько предшествующих дней она плохо себя чувствовала, плохо выглядела. Через минуту в комнату входили две женщины с букетами роз, электрики подтягивали к дому кабель. Ахматова резким тоном сказала, что о камере не может быть речи, максимум — магнитофон, хотя и это — из–за нарушения ими договора и из–за многолюдства — теперь сомнительно. Начались увещевания: «миллионы телезрителей», «уникальная возможность» и особенно «моя мама не спит ночей в ожидании мига, когда вас увидит». Она повернулась ко мне за поддержкой, взгляд был больной, затравленный. Одна из женщин, мне отдаленно знакомая, поглядела на меня поощрительно, видимо уверенная, что я с ней заодно. Я сказал, чтоб они оставили ее в покое. Женщины вытащили меня в коридор и горячо зашептали, что она уже старая и что история не простит. В конце концов та и другая сторона, ненавидя друг друга, сошлись на магнитофоне.
Читать дальше