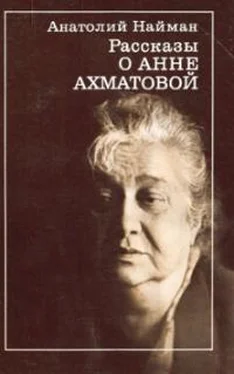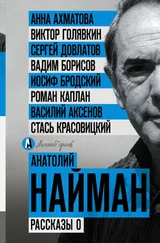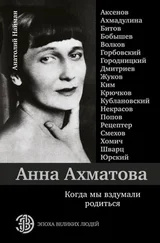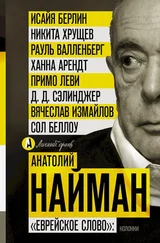В ней не было ни тени русской ксенофобии или подозрительности к иностранцам. Шпиономания же, к концу ее жизни укоренившаяся в умах и сердцах публики, была ей отвратительна. (Другое дело, что она не избежала отравы шпикомаиии: может быть, недостаточно основательно предполагала — а предположив, убеждала себя и близких, — что такая–то к ней «приставлена», такой–то «явно стукач», что кто–то взрезает корешки ее папок, что заложенные ею в рукопись для проверки волоски оказываются сдвинутыми, что в потолке микрофоны и т. д. Может быть, недостаточно основательно — но ни в коем случае не излишне легко: во–первых, всего этого и в самом деле было в избытке вокруг, во–вторых, подобные предположения мучили ее. Что же до тотального «международного шпионажа», то одним из ее любимых доводов против была шпионская поездка в Россию в 1919 году Сомерсета Моэма: «Как видите, подыскать подходящего человека необычайно трудно: чтобы шпионить в разрушенной стране, то есть практически в безопасности и безнаказанно, не нашли никого, кроме известного писателя». И похоже про Рубенса: «Я переводила его письма — оказалось, что он был двойным, если не тройным, агентом. Вот какие фигуры — шпионы, а не лавочники–туристы, щелкающие фотоаппаратом».)
Ее самое иногда принимали за иностранку («к слепневским господам хранцужeнка приехала» — в 1911 году), иностранцы были непременной частью ее окружения в петербургской молодости — и даже в крымском детстве. Она рассказывала, как девочкой долго плавала вдали от берега — «а плавала я так, что брат, учившийся на гардемарина и плававший в полной выкладке в ледяной воде, говорил: ,,Я плаваю почти как Аня"». Какой–то француз–винодел, налаживавший в Крыму коньячное производство, однажды наблюдал за ней, а когда она вышла из воды, сделал комплимент ее способностям. Затем представился, сказав: «Je suis de Cognac c'est connu, n'est-ce pas?» («Я из Коньяка, известное место, не правда ли?»). «А мне было тогда совершенно все равно…»
«Итальянцы думают, что у них трудный язык, — вовсе нет, это они для важности» — так мог говорить человек, который не только читал «Божественную комедию», но и гулял по флорентийским, венецианским, генуэзским улицам. Это было замечание того же разряда, что и «итальянцы все носатые». Поездки 19G4 и 1966 годов стали прямой противоположностью путешествиям молодости: тогда она бывала где хотела — тут ее возили; тогда она глядела на мир — тут глазели на нее. Ее чествовали, она доказала, что ее путь был правильный, она победила, но в pallazzo Ursino было что–то от склепа, в оксфордской мантии — от савана, в самом торжестве — от похорон. И дело заключалось не в старости и слабости, только завершавших картину, а в том, что все, что было живо когда–то, окаменело, утратило душу. Пунина, которая сопровождала ее в первой поездке, повезла ее в магазины купить чемодан для подарков домашним. Продавец принялся скидывать с полок на прилавок лучший товар. Пунина показала на один из чемоданов и спросила, прочный ли. Вместо отпета продавец бросил его на пол, разбежался и прыгнул сверху двумя ногами… — чемодан проломился. Ой схватил другой, они. остановили его, купили первый попавший под руку, кое–как
выбрались из магазина. Ахматова рассказывала о веселом эпизоде, но веселья не слышалось в голосе: это было одно из редких живых впечатлений от Рима и оно не походило на «сновидение, которое помнишь всю жизнь», как написала она об итальянских впечатлениях 1912 года.
Ей оформляли документы для обеих поездок по нескольку месяцев: билет на лондонский поезд выдали в день отъезда. Она говорила: «Они что, думают, что я не вернусь? Что я для того здесь осталась, когда все уезжали, для того прожила на этой земле всю—и такую — жизнь, чтобы сейчас все менять?» Ворчала: «Прежде надо было позвать дворника, дать ему червонец, и в конце дня он приносил из участка заграничный паспорт».
Это был немножко «визит старой дамы»: ехала не Анна Андреевна — Анна Ахматова. Она должна была вести себя — и вела — как «Ахматова», Возвратившись, показывала фотографии: церемония на Сицилии, дворец, большой стол, много людей; на заднем плане — античный бюст с довольно живым — и насмешливым — выражением лица. Она комментировала: «Видите, он говорит: „Эвтерпу — знаю. Сафо — знаю. Ахматова? — первый раз слышу"». Сопоставление имен было существеннее самоиронии.
Рассказывала, как проснулась утром в поезде и подошла к вагонному окну, «И вижу приклеенную к стеклу — во весь его размер — открытку с видом Везувия. Оказалось, что это и есть «лично» Везувий». Везувий–с–открытки был символом «нового», окончательного, последнего зрения: не свежая, любопытствующая зоркость иностранки, называвшей вещь, чтобы «так и было имя ей», а ко всему готовый взгляд из глубины культуры, для которого вещь существует, потому что «так имя ей». И как вся эта поездка, культура тоже пародировала самое себя пятидесятилетней давности: открытка «пиджачной эры», «фельетонного времени» заместила полотно «серебряного века» с изображением той же Италии: «Как на древнем выцветшем холсте, стынет небо тускло–голубое». «Пошлость победила меня», — повторяла она слова Пастернака, услышанные от него в их последнее свидание; он сказал: «Пошлость победила меня — и там, и здесь»,
Читать дальше