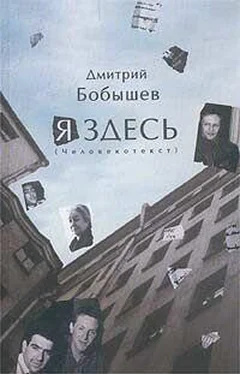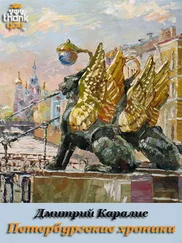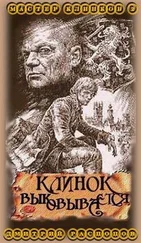Поздней я спорил с Кушнером: он считал “Поэму без героя” отречением от — чуть ли не предательством акмеизма. Я бурно возражал против законсервированности внутри каких-либо художественных принципов, приводил в пример воронежского Мандельштама, семимильно шагавшего к футуризму, но дело было не в том, что поэт, в общем-то, иных измерений не принимал новую, позднюю Ахматову, со временем раздражаясь все больше и больше. Дело в том, что она не приняла его, поставив крепкую четверку по любимому предмету, а он метил в отличники.
Кружок наш не разрастался, и это придавало ему свойство избранности. Порой меня охватывала эйфория; хотелось дерзить. Хотелось добавить еще трех и всемером (намек на великолепие нашей четверки), паля в воздух из пистолетов, угнать в честь Ахматовой электропоезд, нагруженный печатным серебром. Хотелось роскошно отягчить корзиной роз неизвестно откуда взявшийся мотороллер и привезти их в литфондовскую “Будку”. Хотелось объясниться в любви и получить от нее в ответ стихотворное посвящение, причем не только себе, но и каждому из поэтов.
Я преподнес ей стихи, и они справедливо были расценены как мадригал. Были и розы, за которыми я поехал на Кузнечный рынок и выбрал у эстонки пять свежайших раскрытых бутонов разных форм и разной степени алости, смочил платок водой из их родного ведра и, укутав стебли, отвез букет в Комарово. Это был ее день рождения 1963 года, на даче находился с ней кто-то из пунинских домочадцев. Барон Аренс, обтертый шершавыми жерновами ГУЛага, обучил меня неожиданно элегантному умению ставить розы:
— Ножницами обрежьте им стебли — непременно под водой, как в этом тазу, например… Подержите немного — и в вазу!
Розы заалели на письменном столе четко и свежо, как манифест акмеизма. Но одна из них уже тогда предательски вознамерилась перецвесть остальных и стать символической “Пятой розой”, стихотворением, открывшим короткий цикл ахматовских посвящений, написанных в манере, как я считаю, маньеризма (разумеется, ничего общего не имеющего с манерностью), в трудном, обманном, как сам этот цветок, стиле!
Стал слышаться диалог. Некоторые из ее стихов или по крайней мере отдельные образы начали казаться обращенными напрямую ко мне, даже смущали прямотой, но зато следующие строки уводили от этой уверенности прочь, заставляли усомниться, а какие-нибудь детали — например, дата или включение стихотворения в цикл с явно иным адресатом — отрицали уже все.
Нет, не приближение и отталкивание, не игра в отношения, а полифонический прием, объединяющий “тогда” и “сейчас”, предлагающий им зазвучать вместе! При таком гармоническом условии посетитель из настоящего, войдя в перспективы тогдашнего, становился сам ничуть не менее, чем “гостем из будущего”. То же и с чужим голосом в виде цитаты или эпиграфа, вводимых в текст, то есть своего рода обручением, даже контрактом, который подписуется сторонами, — разве это не многоголосие, не Бах, не Вивальди, не Ахматова “Поэмы без героя”?
Я подписал такой контракт, когда она вынула черную тетрадь с уже имеющейся там “Пятой розой”, в которой между названием и первой строчкой было оставлено ровно столько пространства, чтобы поместить туда строчки из моего мадригала:
Бог — это Бах, а царь под ним — Моцарт,
А вам— улыбкой ангельской мерцать.
И — подписаться.
Не желая пересластить эту фугу, я выбрал для нее другой эпиграф, который, впрочем, не устроил обе стороны. И он исчез в последующих переделках. А имя осталось, верней — инициалы.
Впрочем, на время исчезли и они. Академик Жирмунский, с которым я лишь однажды бегло увиделся, когда он выходил от Ахматовой, выкинул мое имя при публикации 1971 года в “Литературке”. Я долго колебался, прежде чем убедил себя следовать простейшей формуле: “Что было — то было”, и написал письмо в газету, которое было передано публикатору. И вовремя! В результате мои инициалы были восстановлены в выходившем тогда “синемундирном” томе Ахматовой, а в комментариях того же Жирмунского они расшифровывались полностью, и я удовлетворился: “Ленинградский поэт, работает на телевидении, преподнес А. А. пять роз”. Правда, поблизости зияла кошмарнейшая ошибка благородного академика: комментируя строчку “А в Оптиной мне больше не бывать”, он объявил вдруг, что там Достоевский встречался со святым Серафимом Саровским, что было полнейшей и позорной чушью. Но зато моя тогдашняя телевизионность проскальзывала вполне сносно-реалистически, а портрет руки в белом манжете и с пятью розами для Ахматовой выглядел весьма элегантно.
Читать дальше