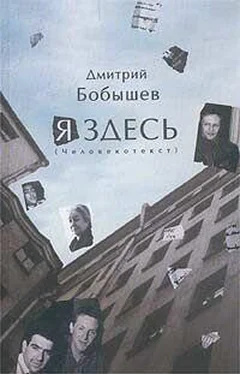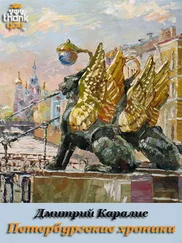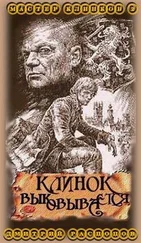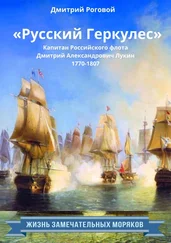— А в ней было то, что поймал Модильяни, или это уже был другой человек?
— В ней была определенная грация, но неподвижная, медленная. А ведь именно это передает тот единственный оставшийся у нее модильяниевский рисунок… Она была красива и в семьдесят лет.
— Вы это как молодой человек чувствовали?
— Чувствовал. После ее смерти об этом же меня расспрашивала Надежда Яковлевна Мандельштам. Она говорила, что после семидесяти лет женщины часто теряют реальное представление о себе и что такова была Анна Андреевна. И когда я спросил, в чем же это проявлялось, заявив, что сам я замечал только ее могучий ум, остроумие и все возраставшую поэтическую силу, она сказала: ну, например, Анна Андреевна считала, что в нее влюбляются и после семидесяти. Я возразил: но это правда! Она спросила: вот вы были влюблены в нее? Я сказал: да, я был влюблен в нее. Тогда она “сразила” меня вопросом: а вы желали ее как женщину, ведь именно к этому все и сводится? Я ответил: но это же не единственное проявление любви, взять описание влюбленности у греческой Сапфо — она говорит о волнении, расширении зрачков, о холодном дрожании пальцев — это все было… Но, естественно, дистанция, включая и возрастную, была такова, что о подобном нецеломудренном отношении не стоило и фантазировать. Конец у разговора тоже был знаменательный. Надежда Яковлевна сказала: я думала, что после семидесяти пяти все без исключения впадают в маразм. А ей самой было уже больше. И я, вместо того чтобы возразить любезно, мстительно промолчал.
А что же моя Наталья? Действительно, как-то мало я помню ее рядом с собой в дружеских коловращениях, именуемых теперь емким, хоть, увы, приблатненным словечком “тусовка”. В доме Толи и Эры на улице “Правды”, в доме Жени и Гали на Рубинштейна, вполне отчетливо воспринимавшихся как литературные дома (слово “салоны” ругательно использовал только Горбовский), Натальей не восхищались, как мне хотелось, а в “нашем” доме на Тверской сборища были редкостью — топорщилась теща, в особенности после выступления Бродского, когда он впервые опробовал свою силовую, агрессивно-роковую манеру читать. Приходилось иметь в виду и то, что технически наша квартира была коммунальной: третью комнату в ней занимала машинистка из Смольного, молчаливая, из пухлых шаров состоящая тетушка, которую навещал седоусый, но еще добрый молодец, на ком когда-то, должно быть, ладно сидела бескозырка со словом “Варягъ”.
Два-три гостя максимум, беседа за крепким кофе из джезвы или за бутылкой именно “слабого”, а не “сладкого” вина была идеальной формой общения у нас, но все же часто я уходил из дому один.
Физически я хранил ей опрятную верность, но эмоционально порой возвращался опустошенным, и она ревновала, пробовала меня проверять. Должно быть, обсуждала все с матерью. Вдруг, когда я собрался к Ахматовой, стала настаивать на поездке к ней вместе, а прежде — никогда. Пришлось мне звонить снова, уточнять. Телефон ответил неожиданно весело: “С женой? Вот и прекрасно!”, то есть с той стороны ситуация прочиталась совершенно узнаваемо: “С ревнивой женой? Вот и прекрасно!”
Я записал эту дату — 18 марта 1962 года, в этот день к Ахматовой должна была приехать из Тарусы Надежда Яковлевна, и я с моей стихотворной вариацией на тему манделыптамовского “Волка” намеревался быть ей представленным. Но она не приехала, предупредив телеграммой о болезни и операции.
Наталья молчала, а мы говорили, конечно, о Мандельштаме, о, как мы думали, скором издании его в Большой серии Библиотеки поэта. Этот многострадальный “синемундирный” том в действительности еще годы и годы претерпевал отлагательства и отмены, внутреннюю борьбу составителя Н. И. Харджиева и правонаследницы Н. Я. Мандельштам, да что там борьбу — войну, в которой потеряли все стороны, но тогда казалось, что издание вот-вот состоится.
— По-видимому, это получится хорошая книга. Выйдет и полный Мандельштам, — уверяла Ахматова. — Когда он умер, я сказала: “Теперь с Осипом все будет благополучно”.
Этот мрачный парадокс напоминал мне о существе литературного дела, в которое я уже настолько глубоко ввязался, что сам рассуждал в накануне прочитанном ей стихотворении памяти Мандельштама:
Ты еще жив. И я когда-то думал,
любовь не понимая, не щадя:
— Я жив еще. В груди моей угрюмой
свисает ветвь осеннего дождя.
Крыловский журнал так ведь и назывался: “Почта духов”, а мы тогда говорили о призраках, как о живых, да чуть ли не с ними самими, существовала даже переписка с их миром, о ней я и заговорил:
Читать дальше