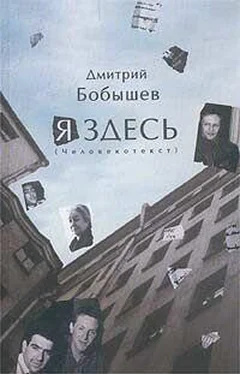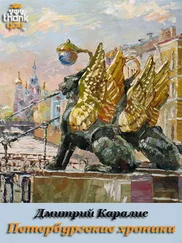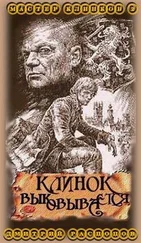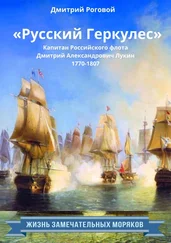Его тогдашние рассказы о встречах с Анной Андреевной были немногословны, не касались содержания их разговоров и сводились к восхищенным признаниям, “как они много ему дают”. Это сильно отличалось от нередких в нашем кругу рассказов о знаменитостях, коллекции которых насобирали мои друзья, да и у меня кой-какие громкие имена числились уже в загашнике. Наоборот, Ахматова представлялась тогда анахронизмом да и была овеяна дымом официальной опалы, но как раз в этом угадывалась возможность встать нам, неизвестным, на одну доску с ней, слишком даже известной — и не без картинной бравады по отношению “к ним ко всем”. Рейн предпринял свои шаги и вскоре позвал меня пойти познакомиться с ней.
Я был убежден, что встреча произойдет по испытанному сценарию “студентов из Ленинграда”, как это бывало не раз в Москве, но из студенческого возраста мы уже выросли. К тому же Рейн, очевидно, заранее сговорился и знал обстоятельства: мы зашли в канцелярский магазин, и он купил шпагату и оберточной бумаги. Он уверенно позвонил в дверь второго этажа дома, мимо которого я тысячу раз уже проходил, никак не ожидая на этой улице вообще ничего примечательного: наша Федосья ходила “на Красную Конницу” за продуктами.
Открыла сама Ахматова, полная, благообразно седая и, повернув свой неопровержимый профиль, бросила в глубь квартиры (властный голос, нежные модуляции):
— Ханна, здесь молодые люди к нам пришли…
Случай, по которому мы здесь пригодились, был переезд: Ахматова с остатками семьи Пуниных получила квартиру в писательском доме на Петроградской стороне, и по предложению Рейна мы были призваны в помощь для упаковки книг.
Все это, впрочем, он уже описал; добавлю лишь детали. Помощь от нас была невелика, да и Ахматова не торопила, чуть ли не каждая книга, снимаемая с полок, сопровождалась каким-либо комментарием: многие были с автографами, пастернаковские — с обширными надписями. Два этнографических оттиска, сброшюрованные в простой картон, вызвали у нее особые, даже горделивые пояснения: то были научные статьи ее сына Льва Николаевича Гумилева.
Наша работа по упаковке совсем замедлилась, а короткие замечания переросли в разговор о литературе. Ахматова не удивилась, узнав, что мы оба пишем стихи, и предложила перейти в смежную малую комнату — видимо, ее обиталище, которое она собиралась сменить на другое.
— Читайте.
Мы прочитали по стихотворению.
— Еще.
Это уже звучало косвенным признанием, и действительно, после прослушивания она объявила, что “стихи состоялись”, но “надо писать короче”.
— А Блок считал, что идеальный объем стихотворения — от двадцати четырех до двадцати восьми строчек, — выпалил вдруг я и заметил на себе предостерегающий взгляд Рейна. От него-то я и узнал о таком мнении Блока, но, вероятно, как многое другое, это было одним из вымыслов моего друга. Что теперь скажет Ахматова?
— Блок… Хотите я расскажу вам, как у меня НЕ БЫЛО романа с Блоком?..
И она рассказала сначала о том, как после их общего выступления перед студентами молодой распорядитель, вместо того чтобы просто отпустить их вдвоем на извозчике, оказывал им почести и развозил в авто по домам. А затем — о случайной встрече на железнодорожной станции и его быстром вопросе: “Вы едете одна?”
— Бог знает, что было у него в уме. А сам он ехал тогда с матерью, я узнала об этом из его “Дневника”. Вот и все. Эти догадки о нашем романе — не что иное, как “народные чаяния”.
Два малых эпизода, многим теперь известные благодаря мемуарной книге Наймана, создавали интересный многослойный эффект, в особенности вместе с ее стихотворением “Я пришла к поэту в гости…” Иронически отрицая роман, всем контекстом тем не менее она давала понять, что роман был возможен: направляла воображение на живую игру взглядов, движений губ и дыхания двух молодых знаменитостей. Я был в восхищении от ее рассказа, будто сам побывал там, ну хотя бы в роли того незадачливого студенческого распорядителя. Кроме того, шутки шутками, а тема “Ахматова и народ” возникала сама собой, как ремарка из “Бориса Годунова”: “Входит Пушкин, окруженный народом”, и с той же, якобы иронической, целью. Слова ее мерялись не размерами разговорного почерка (никаких пустяков), а крупностью самого мышления.
— Как маршал Гинденбург говорил: “Я знаю моих русских”, так и я скажу: “Я знаю моих читателей”.
Это она пояснила свою догадку о том, что мы оказались не читателями, а поэтами… Узнав, что я живу поблизости на Тверской, а вырос и жил на Таврической, она опять заговорила:
Читать дальше