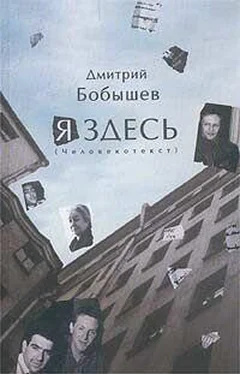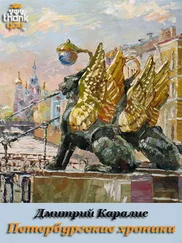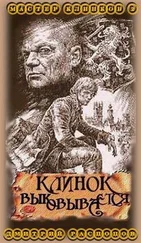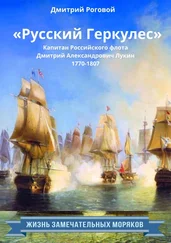Тут щелкнул замок, вошел ее муж — усталый, раздраженный, подозрительный, но, черт возьми, знаменитый.
— Опять ты пьешь! А собаку ты выводила?!
— Женя, это поэты из Питера. Вот — Дима Бобышев, Женя Рейн…
Он, конечно, не нуждается в представлении. На нас якобы ноль внимания. Голубой глаз, как у снайпера, желтая челка падает на морщинки лба.
— И ты принимаешь их в таком бедламе? Немедленно убери квартиру!
Мы с Рейном дружелюбно галдим:
— Да что вы, ей-Богу! Да присоединяйтесь…
— Женя, тебе водки или вина? — игнорирует мужнины упреки Белла.
— Нет, только шампанского!
Странное дело, нашлось даже шампанское. Правда, из уже открытой полбутылки, но все же из холодильника и с намеком на игристость. В этот момент зазвонил телефон, и Белла схватила трубку:
— Да. Нет. Не сейчас. Нет, никак не могу. Да. Да. Перестань! Ты же знаешь. Потом.
Муж опять взвился:
— Я тебе сказал: “Убери квартиру”! Вымой немедленно пол на кухне!
Мы с Рейном поднялись.
— Спасибо за угощение. Нам пора.
Белла:
— Ну что вы! Спасибо, что не обошли меня вниманием. Я сейчас отвезу вас в центр. Я обожаю водить мой “Москвич”!
Муж:
— Ты никуда не поедешь! Я отвезу их сам.
— Ты не сможешь.
— Посмотрим!
Действительно, внутренняя борьба с собой и сражения с автомобильным мотором потребовали какого-то времени. Наконец Евтушенко отвез нас до кольцевой станции метро, где мы расстались. Их брак с Беллой просуществовал недолго. Его я увижу еще, ее — тоже, но уже с новым мужем, коренастым, маститым рассказчиком-лауреатом, вышедшим на минуту взглянуть из гостиничного номера на литературную мелочь, поклонников его жены.
Велеречивая манера ее стихов бывала уместной, когда совпадала с возвышенностью темы — любовью или печалью. Но по несоответствию с темой случалось ей быть самопародийной и многословной, через силу отрабатывающей какое-то литературное задание. Знаменитой ей пришлось стать немедленно после нашей встречи — и на десятилетия вперед… На 200-летии Пушкина мы, уже сами чуть моложе юбиляра, встретились в банкетном кабинете дома Энгельгардта, или Малого зала Петербургской филармонии. Вернее, я познакомился сперва с ее новейшим мужем, живым широкоглазым художником, а он подвел ее ко мне.
— Белла, вы помните меня?
— Ну, конечно, я всегда говорила, что ленинградцы меня читают и ценят больше, чем москвичи…
Померкшая красота, сгоревший взгляд, усилившийся эгоцентризм. И почти тот же голос.
То, что молодых литераторов тянуло к старшим, было неудивительно: они искали покровительства. Удивительным было другое — то, что кое-кто из них его находил.
Например, кто такой Назым Хикмет? Без труда, хотя и не без гримасы, вспоминалось: сталинский лауреат, “прогрессивный” поэт, бежавший из турецкой тюрьмы, куда он был заключен за пламенную любовь к товарищу Сталину и к поэзии Владимира Маяковского.
А кто такой Лев Халиф? А вообще никто, квадратный корень из минус единицы, то есть мнимая величина, поясним это для тех. кто не кончал Техноложки… Но вот Хикмет написал о Халифе в “Литгазете” заметку “Счастливого пути!”, там же поместили портрет брюнетистого молодого человека, несколько неплохих стихов — и дело заиграло! Халиф стал знаменитостью (так и подмывает сказать “на час”), вошел победителем в ресторанный зал ЦДЛ да и остался там безвылазно на полжизни. Интереснее всего то, что и Хикмет от этого выиграл: вызвал любопытство к себе, оказавшись не только не ретроградом, но с помощью своей умной и хитрой переводчицы Музы Павловой перешедши со ступенек маяковской лестницы на шаткие верлибры, стал совсем даже наоборот — поэтом европейского кругозора… “Солома волос, глаз синева”, — это он о какой-то московской красавице. Не хуже, чем переводы из Элюара. Любит блондинок, как все черноморцы. Все-таки турок. А Халиф? Нет, он не турок, пышная его фамилия обманчива.
Но это — в Москве; в Питере знаменитостей поменьше, и они поскромней. Геннадий Гор. Прозаик-фантаст, пишет для юношества, с сочувствием относится к литературной молодежи. Отнюдь не какой-нибудь идеологический мракобес, но, конечно, советский писатель: долбаный, дрюченый, “проваренный в чистках, как соль”, — добавим из уже найденного нами тогда Мандельштама. И — что он может сделать для Вольфа, например? Или — для Наймана, начавшего пером любопытствовать в прозе? Рейн, кстати, тоже пустился повествовать и рассказывать о своих камчатских шатаниях не только в стихах. Да и я сочинил несколько безыдейных опусов в духе Олеши. Вряд ли этот робкоголосый Гор заступится за нас, загнанных в темный угол. Его и до “Литгазеты”-то не допустят. Он может лишь угостить нас чаем с печеньем, что он и делает.
Читать дальше