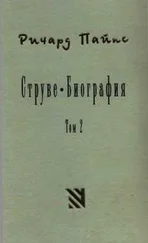В ядовитой атмосфере, создавшейся после смерти Пилсудского, отец вынужден был взять в партнеры католика; это был его соратник по легиону, который, насколько я мог судить, был просто подставным лицом. В 1936 году отец открыл офис в Гдыне, главном портовом городе Польши. Мы навещали его в то и в следующее лето, но кроме этого у нас не было связи. Я не помню, чтобы отец звонил или писал мне хотя бы раз за время своего двухлетнего отсутствия.
Ухудшение политической и социальной атмосферы 1935 года совпало с моим переходом от детства к отрочеству со всеми сопровождавшими его физическими и моральными проблемами. Со мной начали происходить вещи, о которых я не имел ни малейшего представления, но которые превращали меня в совершенно другого человека. Поначалу это выражалось не столько в интересе к девушкам, сколько в глубокой интеллектуальной и эстетической метаморфозе.
Это началось с музыки. Один раз, проводя вечер у маминой сестры Регины, я крутил ручку настройки радиоприемника так называемой гетеродинной модели, который должен был принимать станции всей Европы, но на самом деле из него исходил в основном свистящий шум. Вдруг я услышал потрясающую музыку. Звучала последняя часть Седьмой симфонии Бетховена; судя по быстрому темпу исполнения, это, вероятно, была запись Тосканини. Я никогда не слышал ничего подобного. Музыка была не просто «красива», она обращалась ко мне на языке, который, мне казалось, я знал когда — то давно, но забыл, на языке не слов, а звуков. Эта музыка пронзила меня насквозь. В ту ночь я ворочался, не переставая, потому что музыка, звучавшая в моей голове, не давала мне спать.
Я был полон решимости снова выучить этот язык. Я начал часто ходить на концерты в филармонию (обычно по утрам в воскресенье), где слышал таких выдающихся пианистов, как Джозеф Гофман и Вильгельм Бакхаус. Я начал брать уроки фортепиано. В ноябре 1938 года я начал брать частные уроки гармонии у композитора, который имел подходящее имя — Иоахим Мендельсон. Он был карликом и по — доброму ко мне относился, давая почувствовать, что мне суждено стать композитором. Когда началась война, я готовился к тому, чтобы начать изучение контрапункта. Я также начал брать уроки фортепиано у ведущего польского исполнителя, чье имя, как я помню, было Розенберг. У него всегда было желчное выражение лица, которое моя игра не в силах была смягчить. Отец поощрял мои музыкальные интересы и брал меня в оперу и на концерты, хотя, когда я начал восхищаться оркестровой музыкой Вагнера, он просто пожимал плечами в недоумении. Он вообще с трудом понимал мое развитие после детства и, к тому времени как я стал подростком, вовсе оставил попытки понять меня.
Молодые люди могут довольно реалистично оценивать себя, и если ошибаются, то в сторону чрезмерной недооценки. Я быстро понял, что, несмотря на мою любовь к музыке, мои таланты, будь то игра на фортепьяно или сочинение музыки, были в лучшем случае заурядными. С глубоким разочарованием смотрел я на то, как мои сверстники учились играть на фортепьяно без малейших усилий и как они делали это намного лучше меня. В результате я с сожалением пришел к выводу, что хотя и понимаю мистический язык музыки, я никогда не научусь выражать себя на нем. Продолжая брать уроки вплоть до начала войны, я знал наверняка, что мне не суждено стать музыкантом, и бросил эти занятия после отъезда из Польши.
Но я нашел замену своему увлечению. Меня заинтересовало не рисование, скульптура или живопись, а история искусства. В один прекрасный день зимой 1937–1938 года (мне было тогда 14 лет) в Варшавской публичной библиотеке я листал иллюстрированную «Германскую историю средневекового искусства» и, пробегая глазами по характерным изысканным картинам Византийской эпохи, остановил взгляд на фреске «Снятие с креста» Джотто из капеллы дель Арена в Падуе. Эта фреска начала XIV века, одна из серии о жизни Иисуса, положившая начало европейской живописи, произвела на меня такое же сильное впечатление, как Седьмая симфония Бетховена. Горе стоящих людей, усиленное плачем ангелочков, взирающих с неба, было настолько убедительным, что я будто слышал звуки их стенаний. Это был настолько ошеломляющий эстетический опыт, что он пробудил во мне страсть к изобразительному искусству. Кеннет Кларк назвал бы это «моментом озарения». Я начал усердно изучать историю всех направлений изобразительного искусства — живописи, архитектуры, скульптуры — и делал большое количество записей. Я перевел с немецкого половину «Истории музыки» О. Келлера. Летом 1938 года, которое я провел в частном поместье в западной Польше, я вставал рано утром, садился за стол в старом парке и читал несколько страниц из учебников по истории европейского искусства. Мной никто не руководил, и моя учеба сводилась к изучению имен художников различных школ, дат их жизни и главных произведений, без какого — либо исторического и эстетического комментария. Интерес к этому предмету продолжался, в то время как амбиции музыканта исчезали, и когда в 1940 году я пошел в колледж, я собирался посвятить свою жизнь истории искусства. Эта страсть объясняет, почему я так рвался — довольно глупо — посетить Мюнхенскую пинакотеку, когда мы бежали из Польши.
Читать дальше
![Ричард Пайпс Я жил [Мемуары непримкнувшего] обложка книги](/books/402431/richard-pajps-ya-zhil-memuary-neprimknuvshego-cover.webp)




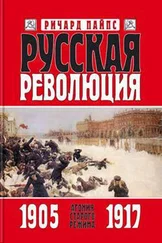

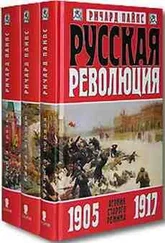
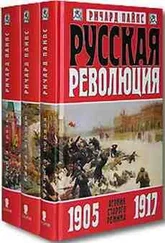
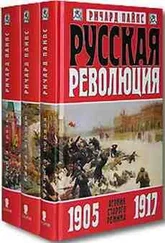
![Ричард Пайпс - Русский консерватизм и его критики. [Исследование политической культуры]](/books/401296/richard-pajps-russkij-konservatizm-i-ego-kritiki-thumb.webp)