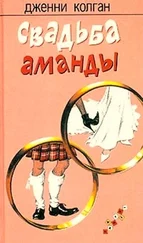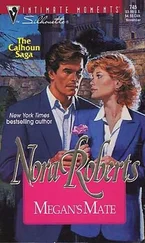* * *
Я увиделась с ним только один раз. В июле 1982 года. Я снималась на телевидении в Мадриде, где в первый раз я должна была говорить о своей живописи, показать небольшую картину и ее прокомментировать. Я использовала этот приезд, чтобы увидеть моего обожаемого Петинира и «Менины». На следующий день я уехала в Барселону, где большая ретроспектива Дали побила все рекорды. Несмотря на качество представленных полотен, выставка была претенциозной. Все дамы должны были оставить сумочки в гардеробе, мера, не применявшаяся даже в Прадо! Можно ли было внушать такой страх по отношению к произведениям «божественного Дали»!
Барселона, где я не была уже три года, не изменилась. Портье «Рица» спросил меня о сеньоре Дали. Я позвонила кузену Дали, Гонсало Серраклара, и Гонсало рассказал, что Дали выставил его за дверь и отказался принимать даже Людовика XIV. Для него ничего нельзя было сделать, потому что он не хотел никого видеть. Я заказала машину и отправилась в Пуболь, куда прибыла около 5 часов вечера с бьющимся сердцем. Деревушка всегда пахла коровьим навозом, да и замок тоже. Но портал, который я всегда видела открытым, был закрыт. Я позвала Артуро. Он страшно обрадовался моему приезду и обнял меня. Он немного постарел, но остался таким же смуглым. Я спросила его о Паките, поварихе. Артуро покачал головой: — Ах, сеньорита, все так изменилось, все не так, как раньше. Que disgrazia! (Какое несчастье). Я даже не знаю, захочет ли он вас видеть. Это совсем другой человек, он стал как животное…
Мы поднялись по ступенькам, заросшим мхом. Я заметила чудовищных слонов с журавлиными лапами, которых Дали сделал для Галы, и бассейн, украшенный керамическими бюстами Вагнера. Все было в запустении. Я подняла глаза. С потолка, с фрески, представлявшей собой наклеенный на потолок холст, Гала смотрела на меня, а вокруг нее летали ласточки. Вошла медсестра и взглянула на меня с любопытством. Вернулся Артуро и сообщил:
— Он только что проснулся после сиесты. Я сказал ему, что вы здесь, но он не понял. Он лежит на полу и не хочет вставать. Я не знаю, что делать.
Я попросила его настаивать, сказать Дали, что я только на секунду, что хочу только его обнять. Я знала, что ему было стыдно предстать передо мной старым и больным. Я обещала не смотреть. Наконец Артуро вернулся, улыбаясь. Дали захотел увидеть меня на минуту, но в полной темноте. Не нужно было, чтобы я его видела, и не нужно было сообщать об этом газетам.
Я вошла в гостиную, обставленную Галой. Окна были закрыты, и я еле разглядела пианино и софу с красными подушечками около круглого стола со страусиными лапами и стеклянным помостом, позволявшим увидеть конюшню этажом ниже.
Дали сидел на стуле, но я с трудом угадывала его силуэт. Артуро закрыл дверь и вышел, и только тоненькая полоска света из-под двери позволила мне разглядеть, что на Дали был халат. Я села на софу, напротив стены с панно, нарисованным для того, чтобы скрыть радиатор, точно воспроизведенным Беа и переработанным Дали. После долгого молчания я заговорила, силясь обратиться к нему как можно нежнее, чтобы его не испугать.
— Здравствуйте, маленький Дали. Я приехала из Барселоны только на минуточку, чтобы с вами поздороваться, чтобы показать вам, что я вас не забываю. Дальше я поеду в машине до Перпиньяна, вы же помните, что я всегда еду через Перпиньян.
Мне показалось, что он кивнул. Он был так худ и истощен. Он сказал хрипловатым, ослабевшим голосом:
— Волосы, вы опять обрезали волосы…
— Да, немного, слегка, они были слишком длинными.
— Я бы предпочел, чтобы они были… длиннее. Вы меня видите?
Он забеспокоился.
— Нет, я вас совсем не вижу, не бойтесь. Здесь слишком темно. Почему вы не выходите? Там так солнечно…
Я пропела каталонскую песенку, которой он меня научил: «Sol solet vine ma veure, vine ma veure…»
— Нет, нет, — прервал меня он. — Я больше не хочу ни солнца, ни песен. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Скажите, чтобы меня не трогали.
Уже с большей силой он добавил:
— Весь мир мне осточертел. Все. Они мне навсегда осточертели. Я больше ничего не хочу. Вы всегда поете?
— Да, конечно. Мне нужно зарабатывать на жизнь, и еще я много рисую, все время рисую. Все, что вы мне посоветовали…
Темнота помешала мне увидеть, как он плачет.
— Какая жалость! — вздохнул он. — Было бы гораздо лучше не петь, не рисовать. Я хотел, чтобы вы стали принцессой, а не человеком искусства. Вы будете так страдать…
Мы долго молчали, друг напротив друга, в полутьме. Я слышала его дыхание, слышала, как он ерзает на своем стуле. Уходя, я не сдержалась и сказала ему:
Читать дальше