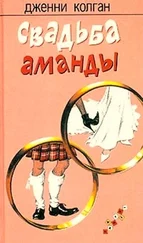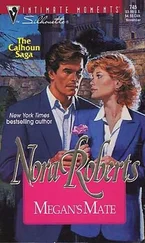Аманда Лир - Дали глазама Аманды
Здесь есть возможность читать онлайн «Аманда Лир - Дали глазама Аманды» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 2005, ISBN: 2005, Издательство: КоЛибри, Жанр: Биографии и Мемуары, Искусство и Дизайн, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Дали глазама Аманды
- Автор:
- Издательство:КоЛибри
- Жанр:
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-99720-005-9
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 2
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Дали глазама Аманды: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Дали глазама Аманды»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Дали глазама Аманды — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Дали глазама Аманды», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Я была сбита с толку, но поняла, что она очень взволнована.
В другой раз Дали меня упрекнул, что я плохо говорила о Гале в одном интервью. Я не припоминаю, чтобы я дурно о ней отзывалась, и заверила его в своей лояльности, но Дали настаивал:
— Вы говорили о ней плохо. Мне это подтвердили. Я не буду вашим другом, если вы не будете уважать Галу. И вы это знаете.
Я легко представила себе все эти россказни и гадости, которые ему могли передать обо мне. Но в результате наши отношения стали еще более напряженными.
В ту зиму в Париже он представлял собой жалкое зрелище. Болезнь, казалось, все больше овладевала им. У него были кризисы настоящего безумия. Он ревел и жестикулировал, как одержимый. Потом он падал навзничь и отказывался подниматься. При свидетелях Гала поднимала его ударами палки, оскорбляя, упрекая в том, что он больше не работает, что он ни на что не годен. Как само собой разумеющееся, газеты поторопились обнародовать эти сцены, оснастив репортажи фотографиями, на которых было изображено, как Дали помогают выйти из ресторана случайные знакомые. Как мог Дали, которого я так обожала, мой друг и учитель, дойти до такого! Сабатер был, наконец, уволен и заменен на Ля Верите, то есть графа дю Барри, ставшего секретарем Дали и занимавшегося отныне его контрактами. Дали был больше не способен подписывать контракты. Чтобы удостоверить документы и картины, у него брали отпечатки пальцев. Он боялся всего, отказывался принимать друзей и испускал животные крики, когда в его присутствии произносили слово «контракт». Он стал неузнаваем, похудел до невозможности. Его усы поседели и глаза погасли.
Я страдала от того, что не могу ему помочь. После того, что он сделал для меня за пятнадцать лет нашего знакомства, я хотела принести ему утешение, хоть немного воздать ему за его благодеяния. Но как я могла выполнить свое намерение, когда он затворил дверь перед всеми. В каждом городе Европы, где я пела, я расспрашивала специалистов о болезни Паркинсона. Но это ни к чему не привело. С одной стороны, Дали отказывался лечь в клинику. С другой, Гала плохо обращалась с ними: отсылала одного, критиковала другого, заявляла, что европейские врачи и в подметки не годятся американским. Иногда она долго разговаривала со мной по телефону, жаловалась на то, что Дали не хочет ни лечиться, ни бороться с болезнью. Она говорила, что это невыносимо, что она собирается уйти от него. Однажды она даже стала умолять меня ему помочь: — Вы наш единственный настоящий друг. Я нуждаюсь в вас. Приходите к Дали. Я знаю, что он не хочет, чтобы вы его видели в таком состоянии, но я с ним поговорю и попытаюсь его убедить. По крайней мере вы могли бы его развлечь, заставить выходить…
Но Дали выхватил трубку:
— Нет, я не хочу, чтобы вы меня сейчас видели. Нужно, чтобы вы сохранили в памяти мой прежний образ. Вы не должны разочароваться, увидев меня таким. Никогда. Я этого не вынесу.
В другой раз Гала плакала по телефону:
— Боже, какой конец… Какой упадок…
Она не знала, куда деться от всего этого:
— Я так хочу отдохнуть, но Дали не разрешает мне покидать его ни на минуту. Я не могу даже пойти к парикмахеру, я не выхожу из дома, я так больше не могу…
Я представляла себе ее отчаяние, вызванное ужасными сценами, спровоцированными Дали. Он никогда не был легким больным, а сейчас это должно было быть отвратительно. Он виделся только со своим кузеном Гонзало, с фотографом Дешарно и художником Антонио Питхотом. Когда дю Барри приносил контракт на подпись, ему приходилось общаться с Галой, всегда жадной до наживы, и он подтверждал, что их финансовая ситуация была не такой уж ужасной.
В сентябре я улетела в Нью-Йорк, где должна была петь в «Сент», огромной дискотеке, расположенной в Виллеже. Это был триумф. Мой концерт собрал толпу молодежи, и я провела несколько чудесных дней. Телеграммы с поздравлениями приходили отовсюду — из Далласа, из Сан-Франциско. Мне предлагали другие концерты. Я увиделась с Майклом Стаутом, адвокатом Дали, который долго рассказывал мне о нем. Обслуга из «Сан-Режиса» расспрашивала меня о Дали, его здесь не забывали. Я позвонила ему, чтобы сообщить, что стала звездой и по ту сторону океана. Гала спросила меня, скоро ли я приеду. Я вдруг почувствовала свою вину. У меня возникло ощущение, что я бросаю Дали и Галу в то время, когда они так нуждаются в моем присутствии. Но я должна была быть на сцене… Как я могла поступить по-другому?
Первая выставка моих картин состоялась в октябре, в небольшой роттердамской галерее. Я выставила 15 полотен. Я так долго ждала этого события! Реакция окружающих была положительной, и я решила продолжать и сняла маленький зал в Сен-Жермен-де-Пре. Я не собиралась выставлять свои картины в предместье Сент-Оноре, где бы прежде всего обратили внимание на то, что это выставка скандально известной звезды. Я хотела остаться робкой дебютанткой, мечтала, чтобы на меня обратили внимание, как на художницу. Отзывы были хорошими, несмотря на то, что все указывали на влияние Дали. Критики забывали о том, что он мой учитель. Он был очень удивлен, узнав, что я выставила свои картины, ведь он всегда утверждал, что у женщин нет таланта. Но именно Дали помог мне развить мой талант! Можно только представить мою радость, когда одну мою картину купил бородатый месье, никогда не слыхавший обо мне. Он купил картину, потому что она ему понравилась, а не потому, что ее нарисовала звезда. Я чуть не бросилась ему на шею, испытав удовольствие гораздо более сильное, чем в те времена, когда я получила свой первый золотой диск. Успех выставки меня переполнил. Рожер Пейрефитт сочинил чудесный текст для приглашений. В благодарность я подарила ему небольшую картину, на которой был изображен Александр Великий. Друг Рожера, Ив Брайе, предложил мне выставиться в Большом Дворце, на Осеннем салоне. Я послала туда большое солнечное полотно, на котором был изображен Ален-Филипп со спины. Я нарисовала эту картину в Таормине, во время моего последнего сицилийского турне. Это было памятное турне, потому что у нас угнали грузовик с костюмами и инструментами…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Дали глазама Аманды»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Дали глазама Аманды» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Дали глазама Аманды» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.